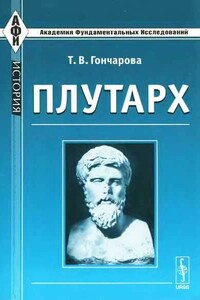За два дня я собрал группу человек в пятьдесят. Были здесь Иваны, Сереги и Федоры — имена придуманные, как и псевдонимы у повстанцев. В аковском штабе на Мокотуве я познакомился с комендантом плаца подполковником Каролем и майором Зеноном. Мой отряд влился в польское соединение «Башта» как самостоятельный взвод. На пятьдесят человек у нас было три пистолета, один автомат и две винтовки. Повстанцы делились с нами сухарями и консервами. Среди них мне запомнились бывшие летчики Стасик и Юрек. Юрек пробрался в Польшу из Франции. От него я узнал, что в сорок третьем он участвовал в знаменитой операции по экспроприации рейхсмарок, которые везла из банка немецкая машина.
— Скажи-ка, дядя, — спросил я, совсем как тот племянник из стихотворения Лермонтова «Бородино», — а какая самая крупная операция была у твоего взвода?
— Мы вместе с аковцами устроили засаду в районе аэродрома Окенче. Поджидали немецкую машину с оружием. Но появилась не машина, а повозка, которую охраняли пятнадцать — двадцать немцев. На повозке был установлен пулемет. Охранников мы сразу же уничтожили, но пулеметчик на повозке, которую понесли лошади, продолжал поливать нас. Кто-то догадался наконец подстрелить лошадей. Повозка остановилась, пулемет замолчал. Из моего взвода было убито десять человек, у поляков восемь. Мы поровну поделили автоматы и патроны и стали возвращаться назад. Неподалеку от бывшего дворца Кшесинской, там теперь, кажется, расположился Национальный музей, — поляки предложили сделать привал. Мы вошли в парк и в глубине увидели роскошную двухэтажную виллу. Вошли в нее. В холле у огромного окна я увидел белый рояль. Один из ребят поставил на него прокопченный солдатский котелок, другой открыл крышку и стал бренчать.
— Отличный кадр мог бы получиться у тебя — белоснежный рояль и прокопченный котелок на нем. Твой учитель Дзига Вертов мог бы позавидовать такому кадру.
— Сам понимаешь, тогда мне было не до этого. И вот в холл входит мужчина в черном костюме и накрахмаленной сорочке. «Что вам угодно?» — раздраженно спросил он. «Решили отдохнуть после боя», — ответил Стасик. Мужчина вышел в парк. «Что-то рожа мне его не нравится, — негромко произнес Стасик. — Мои хлопцы обследовали его халупу. В гараже два «мерседеса», баки доверху залиты бензином. Может, арестуем?» — «Прав таких у нас нет. А кто он такой?» — «Пан Городецкий». — «Кто?!» — «Заместитель министра финансов, пан Городецкий, входивший в состав правительства при Пилсудском». — «Вот это птичка! Что ж его немцы-то не пощупали?» — «А он женат на немке, вот его и не тронули. Его пани даже наша контрразведка не решилась арестовать. Посидела у Мирона с фольксдойчами, потом ее отпустили». Пан Городецкий уже разговаривал у подъезда с кем-то из аковцев. В холл ввели какого-то старика, его поддерживали под руки девушка в белом чепце — видно, горничная — и мужчина. Старичок был в смокинге, узкое морщинистое лицо выдавало в нем породу. «А это еще кто?» — спросил я у Стасика. «Маршалек Стромпчинский. Рыдз-Смиглы был у нас маршалек военный, а этот гражданский. При Пилсудском был председателем Сейма». Передо мной была живая — вернее, полуживая — история довоенной Польши, еле передвигавшая ногами. Я вышел в парк и закурил. Тут-то ко мне и подошел пан Городецкий и на чистейшем русском языке спросил: «Я слышал, вы мой однофамилец? Вы поляк?» — «Русский». — «У русских таких фамилий не бывает. Вы где родились?» — «В Сибири, на станции Зима». — «Ах, в Сибири! Вы не русский, а поляк. После польского восстания в 1831 году Николай Первый выселил поляков в Сибирь». — «Я не могу быть поляком хотя бы потому, что мой дед был православным священником». — «В вашем положении лучше быть поляком»...
Мы решили заночевать на вилле. Я поднялся на второй этаж. Смолкли минометы, прекратился артобстрел. К ночи заметно похолодало. Я завернулся в ковер стоявший в углу комнаты, и заснул. Проснулся оттого, что меня кто-то толкал и звал: «Пан майор, а пан майор, там внизу вас ждут...» В холле у рояля стояла группа моих ребят и несколько поляков. Пан Городецкий размахивал руками перед аковским патрулем и что-то громко объяснял. Оказалось, что он уже побывал в комендатуре и сообщил, что его ограбили мои ребята. Тут же на столе стояли замшелые бутылки с коньяком и старкой, два-три окорока, консервные банки с фруктами и мясом. Ко мне подошел один из моих ребят и объяснил: «Все, что мы здесь видели, ни в какие ворота не лезет. Сидим голодные, жрать нечего. А у этого пана собачек белым хлебом кормят. На кухне с утра жарят, парят и варят. А нам даже куска хлеба не предложили. Ну ладно, он русских не любит. Так ведь и своим пожалел. Мы тут же к горничной: пани, дайте что-нибудь пожевать. Она предложила нам пройти в подвал и все выбрать самим. Ну, мы взяли с собой жратвы и выпивки и устроились здесь». — «Вы украли у меня золото! — сказал пан министр. —Ворвались в комнату моей жены и украли все драгоценности!» Я решил проверить его на вшивость: «А ваши соотечественники на такое не способны?» — «Исключено!» Патруль был более объективен — он арестовал не только моих ребят, но и аковцев. Меня же оставили на свободе. Я доложил майору Зенону о нашей вылазке в Окенче и об аресте моих ребят. «Сегодня же справлюсь в комендатуре», —успокоил меня майор. «Что слышно на Жолибоже?» — «Говорят, у них там два русских связных переправились с радиостанцией через Вислу. На днях батальон поляков форсировал Вислу, плыли от Праги, но не в расположение повстанцев, а немцев. Всех уничтожили...»