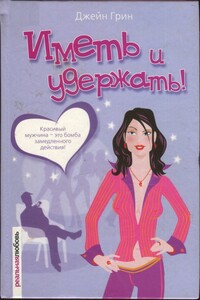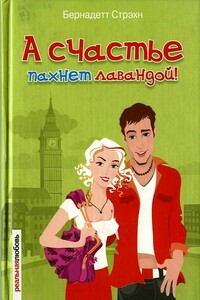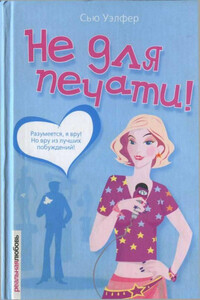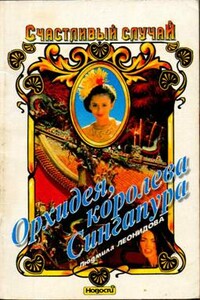— Ты сама это выбирала? — спрашиваю я.
— Конечно, — отвечает она. — Все, что здесь есть, я выбирала сама. Я же обожаю белое с розовым. Прямо как ты.
— Как я? — переспрашиваю я.
— Во всяком случае, так говорит мама.
— Я хотела выкрасить здесь стены в черный цвет.
Джина издает звук. Что-то среднее между смешком и всхлипом.
Я соскальзываю с табуретки и пересаживаюсь к ней на кровать. Новое для меня ощущение: чувствовать, что Джина — это моя семья. И я ложусь на кровать и обнимаю ее.
— Уходи, — говорит она, но поворачивается ко мне, утыкается мне в плечо и начинает плакать. Поэтому я не обращаю внимания на ее слова.
До того как она отстраняется от меня, слезы просачиваются сквозь все слои моей одежды и плечо у меня становится мокрым. Я сажусь и роюсь в вещах, чтобы найти хоть что-то, куда она может высморкаться. Подбираю с пола грязную майку, один из этих коротеньких топов, он подойдет.
— Гадость какая, — говорит Джина, отталкивая от себя топ.
— Он оказался под рукой.
Джина опять ложится на спину и смотрит в потолок, но в ней уже нет той мрачной злобы, которая была несколько минут назад. Я подтягиваю колени к подбородку и просто так сижу на кровати. Жду.
— Почему ты их вчера впустила? — спрашивает она.
Это о семье Дилена.
— Потому, что они беспокоились о тебе. Потому, что Дилен тебя любит.
Она трет майкой под носом.
— Мама говорит, что больше не даст мне встречаться с Диленом, — сообщает Джина. — Она говорит, что постарается подать на него в суд за половую связь с «лицом до шестнадцати».
Я хмыкаю:
— Ему и самому еще нет восемнадцати.
Джина улыбается.
— Вообще-то да. — Улыбка исчезает. — Я потеряла ребенка, — шепчет она.
Я киваю головой.
— Я знаю.
— Конечно, знаешь, ведь ты была в больнице.
Да. Глупо, что я сказала. И так понятно.
— Я до конца не осознавала, что беременна, — продолжает Джина, не обращая на меня внимания. — Все было как-то… как будто не по-настоящему. Я, наверное, должна переживать, да?
— А ты не переживаешь?
Она перекатывает голову из стороны в сторону по подушке.
— Может, еще начнешь, — говорю я. Звучит малоубедительно, но я и в самом деле не знаю, что она должна чувствовать.
Должна чувствовать.
Я едва удерживаюсь, чтобы не ударить себя. Речь не о том, что она «должна чувствовать», речь о реальной жизни.
— Наверное, и я бы не переживала, — говорю я.
Джина хмурится на потолок, но, когда мои слова доходят до нее сквозь ее мысли (какими бы они ни были), она смотрит на меня. Удивленно.
— Я хочу сказать, — говорю я, — что я никогда не хотела иметь детей, поэтому я тебе не пример, но если бы я была на твоем месте… — Я замолкаю. Стараюсь вновь почувствовать себя шестнадцатилетней. В этом доме это нетрудно. Шестнадцать лет. Джонз. Морган. Моя первая сигарета. Как будто все это было миллион лет назад. Как будто это было вчера. — Если бы я была на твоем месте, — продолжаю я, — я бы почувствовала облегчение.
Она опять хмурится и открывает было рот, но я продолжаю говорить, и у нее нет возможности вклиниться.
— Знаю, звучит это отвратительно, особенно потому, что родные Дилена… — Я обрываю фразу, не зная, как, собственно, их охарактеризовать. — Я имею в виду, что они были так взволнованы тем, что у них появится внук, и все такое. Но, если бы я была на твоем месте, я была бы рада, что не стану матерью. Не знаю. Наверное, во мне нет этого материнского начала, что ли… И в шестнадцать лет у меня были такие большие планы…
— Какие? — вклинивается Джина.
Я моргаю.
— М-м-м… вырваться из этой Глубокой Задницы.
— Да уж… планы грандиозные! — говорит она, но не может не улыбнуться фразе, которую каждый молодой обитатель Хоува знает наизусть.
— Я просто хотела посмотреть, какой может быть жизнь в других местах, там, где люди не… — я замолкаю.
— …Где у людей на завтрак, обед и ужин не одна только ненависть, — заканчивает она за меня.
Я еще крепче обнимаю свои колени и сжимаю их:
— Да.
Должно быть, все это из-за возникшего чувства близости между нами, сестрами, потому что раньше я не могла бы даже представить себе, что буду говорить то, что говорю сейчас. Я даже не совсем верю, что понимаю, что говорю: