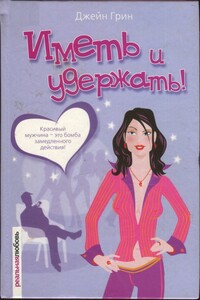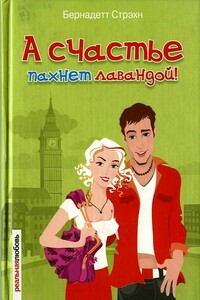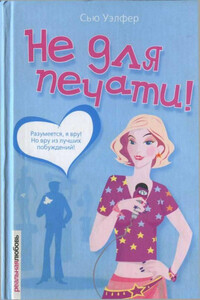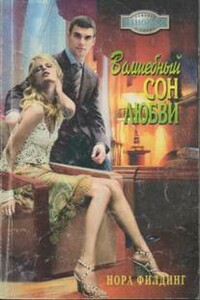— Кому что, — ответила я. — А еще можно плеваться, оттянув язык назад. Вот это действительно сложно.
— Ну, это-то каждый сделает.
— Я не сделаю. — Я открыла рот, прижала низ языка к верхним зубам и резко плюнула в него.
— Я так и думал, что сможешь.
— Тоже мне всезнайка.
— У тебя уши дергаются, когда ты смеешься.
— Да? А у тебя у глаз складки. — Я вытянула руку и дотронулась до кожи у его левого глаза. — Вот здесь.
Он отдернул голову от моей руки.
Я положила руку себе на внутреннюю сторону бедра.
— Здесь очень горячо, — сказала я.
— Джо-на, — донесся голос его матери снизу. Стены дома содрогнулись, как будто что-то упало, и по лестнице прокатилось ее сдавленное «Черт!»; сразу вслед за этим раздался звук стекла, бьющегося о твердую древесину и разлетающегося в пятидесяти разных направлениях.
— Тебе лучше уйти, — сказал Джона и поднялся с кровати. — Похоже, сегодня она слишком рано начала.
Его голос заставил меня вздрогнуть. Может быть, потому, что мне уже тринадцать и я поняла, что окружающий мир гораздо больше глобуса в школьном холле…
— А ты как же?
Он улыбнулся:
— Без проблем. — Но кожа у глаз в складочки не сложилась.
Я сажусь и прикидываюсь, что не вижу, что глаза у Джоны не улыбаются. Перегнувшись через стол, я забираю у него кофе и делаю несколько глотков горячего напитка, одновременно рассказывая ему, зачем звонила Джина.
— А почему она хочет приехать сюда? — спрашивает Джона.
Я закатываю глаза.
— Она же живет с моей матерью.
Уголок рта у него подергивается.
— И что с того? Я ее ни в чем не обвиняю, просто спрашиваю.
— Она говорит, что ненавидит маму и папу и что она и какой-то парень, которого зовут Дилен, приедут сюда. Индия меня убьет.
— Может быть, мне забрать твои компакты? — спрашивает он, весь воплощенные забота и сочувствие.
— Нет. Я завещаю их моргу, вместе с твоими органами. — Я прижимаюсь лбом к столу. — Не хочу я быть матерью, — говорю я.
— Ей же шестнадцать, — говорит Джона. — Ты уехала, когда тебе было семнадцать. У тебя здесь никого не было, а ты все-таки устроилась. И не думаю, что ей нужна мать.
— «Ты была у меня», — начинаю подпевать я, но потом замолкаю. — Надоела мне эта «Сторожевая башня», — говорю я вместо того, чтобы продолжать петь. — У Майка опять облом?
Джона откидывается на спинку стула, молча давая понять, что признает мое право на некоторую свободу в том, что касается игры под названием «Мама Джины».
— Я сам брал кофе, — говорит он. — С ним не разговаривал.
— Я хочу пива, — говорю я и выскальзываю из-за стола. — Принести тебе еще кофе?
Он протягивает мне свою чашку.
Никогда не давала себе труда спросить у Джонза, почему он такой трезвенник. Я не видела, чтобы его мать пила что-то, кроме воды из водопроводного крана. Думаю, что единственным намеком на «что-то другое» был звон разбитого стекла в то жаркое лето и небрежное Джонино «Сегодня она рано начала». Но спрашивать я никогда не спрашивала. Глядя сверху вниз на пустую чашку из-под кофе, я думаю, не является ли это знаком того, что мы с Джоной не так уж сильно связаны. Ну, то, что я его не спрашиваю об этом…
Джонз наблюдает за мной с таким же пристальным вниманием, с которым разглядывал ту картину, на которой был изображен старый орех с глазом. Или с ухом? Меня это нервирует, поэтому, чтобы он ничего не подумал, прежде чем отойти, я пожимаю плечами и улыбаюсь ему.
— Привет, Майк, — кричу я лохматому парню за стойкой. Мотнув головой, он откидывает волосы назад через плечо и кивает, давая понять, что услышал мое приветствие, заглушаемое исступленным пением Джимми Хендрикса. Майк напоминает мне одного из средневековых аскетов, которые прятались от мира в пещерах Святой Земли. Одного из тех, кто десятилетиями не знал мыла и бритвы. Внешняя сторона вещей Майка не особенно беспокоит. Наверное, этим можно объяснить потрескавшуюся кожу на диванах Клуба и стены, состояние которых не выдерживает никакой критики.
— Опять «Сторожевая башня»? — говорю (кричу) я, протягивая ему чашку Джонза и показывая на кран, прежде чем поднять один палец.
Наливая мне стакан пива, Майк качает головой:
— Сбежала ведь, с моим лучшим другом.