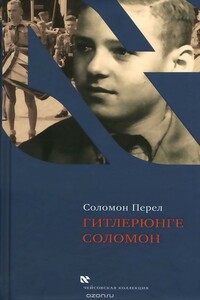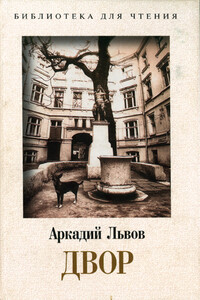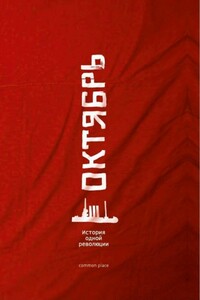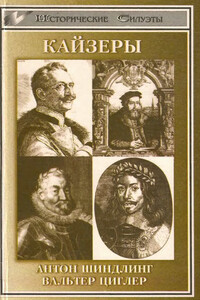Да и вообще, как замечено русской мудростью, конец — делу венец. А конец, он ни для кого не тайна: не пристал Мандельштам к православию ни в те годы, ни позднее, когда обручился с киевской еврейкой Надеждой Хазиной, православного вероисповедания.
Случайность это, каприз обстоятельств? Нисколько. А что же? Если не игра случая, не каприз обстоятельств, стало быть, закономерность, ну, пусть не закономерность, но нечто фундаментальное, обязательное?
Именно так: фундаментальное, обязательное. И парадокс в том, что еврей Осип Эмильич Мандельштам, хотя и принявший христианство, не принял и ни при каких обстоятельствах не мог принять православия. Пойти в церковь мог, стоять на клиросе мог, даже петь в хоре и бить прилюдно земные поклоны мог. А вот принять православие, главное, державное вероисповедание России, не мог. Именно потому и не мог, что было оно главное, что обнимало почти 150-миллионное стадо тогдашней России, что пастыри его духовные были одновременно и пастыри, через царей, державные.
Чем была в России финская епископско-методистская церковь, к которой пристал Осип? Так, дождевая капля меж небом и землей; те же инородцы — не жиды, так чухонцы. Мог ли гордый потомок народа овцеводов, патриархов и царей — от гордости всю жизнь запрокидывал Осип голову так, что принимали его за слепого — мог ли царственный отпрыск-иудей открыто пристать к большинству ради того, что оно большинство? Да за такое убожество духа он первый же устроил бы себе побитие камнями, как постановили праотцы!
Но главный вопрос: а хотелось ли ему вообще пристать? Нет, не хотелось пристать, не хотелось прилепиться ни к какому стаду — ни к большому, ни к маленькому. А хотелось отлепиться от своего, от иудейского стада, какое дано ему было от рождения. Примеряя на себя одежи живых и мертвых — только не евреев! — тревожился он об одном: как бы не вылезла мерзкая пола лапсердака, как бы не выбились из-под шляпы курчавые пейсы!
Он любил Финляндию. Он посвящал ей стихи: «Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай. Твой Ося». Финляндия входила в имперскую Россию, царь титуловался Великим Князем Финляндским, но Финляндия никогда не была Россией. И Осип отъезжает на семьдесят верст из Петербурга, в город Выборг, пастор Розен производит над ним постановленные, согласно св. Евангелию, допросы, касающиеся веры и обязанностей христианина, и вот — Ося уже не иудей!
Но откуда, скажите на милость, у пастора Розена, из чухонского края, такая власть, чтобы мог он освободить Осю от его жидовства? Что, он выкачал из его вен старую кровь и накачал новую? Откуда! Что, он произвел незримую трепанацию черепа и заменил прежний, еврейский, Осин мозг на новый, как пристало правоверному христианину? Откуда! Что, он иссек грудную полость Осину, извлек иудейское сердце и вставил на его место протестантское, епископско-методистское сердце? Откуда!
Так в чем же, собственно, Осина трансформация: в том лишь, что раньше он не мог быть студентом Санкт-Петербургского университета, а теперь мог? Иными словами, в том, что, как выражались местечковые делопроизводители, выправили Осе нужный документ?
Если хотите знать, именно так: выправили нужный документ. А подогнать себя под документ — это была уже Осина забота.
И Ося заботился, и еще как заботился! Помните, как пушкинский Балда «пошел, сел у берега моря; там он стал веревку крутить да конец ее в море мочить»? Помните, как «из моря вылез старый Бес: „Зачем ты, Балда, к нам залез?“ А Балда в ответ: „Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить“»?
Так вот, это Балдово морщение-корчение чертей в окияне-море — детские забавы по сравнению с тем, как Ося корчил да корчевал в себе жида. У пушкинского умника Балды что? — одно физическое беспокойство, примитивное телесное усилие. А Осип знал — уж ему-то, внуку германских раввинов и курляндских ювелиров, не знать ли этого! — что окиян-море, с погибельными его штормами, не вне, а внутри человека. Что веревку крутить да мочить, да устраивать стихиям морщение, вздымать волны и корчить беса — в Осином казусе, естественно, беса иудейского — надобно не где-то, а в себе, в окияне-море, который есть твоя собственная душа: «В самом себе, как змей, таясь, / Вокруг себя, как плющ виясь, / Я подымаюсь над собою…» В том же стихе к змею и плющу прибавляется еще одна ипостась, орлиная, так что Ося освоил все три стихии — и воду, и земную твердь, и воздух — и во всех этих стихиях предстояло ему корчить-корчевать в себе беса жидовства, который, дело ведомое, самый нахальный, самый въедливый, самый дотошный бес. Кому приводилось встречать живого еврея, не нужно много объяснять.