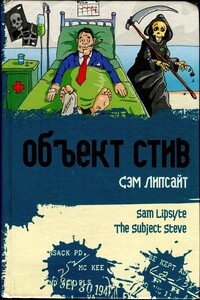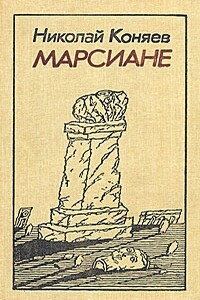— Что? — спрашивал Шули.
— Я подбежал к матери, рассказать, как раввин меня побил. Подбежал показать свое помятое ухо. И знаешь, что сделала мать?
— Что? — спрашивал Шули, уже начиная хихикать.
— Она сказала: «Если он отвесил тебе такой зец[32], ты, верно, ужас что натворил». И отлупила меня за мои грехи — так я получил уже по второму разу.
И они оба находили, что это уморительно смешно, хоть и вопиюще несправедливо.
Шули смеется над своим воспоминанием, и именно это побуждает мальчика заговорить. Гавриэль спрашивает, над чем он смеется. Рав Шули подается вперед, заскрипев стулом:
— Что-о? Сидишь тут, помалкиваешь, а я должен выдавать тебе свои секреты?
И сразу же видит, как мальчик замыкается — точно створки раковины захлопнулись.
— Я рассмеялся, потому что впал в ностальгию, — говорит Шули. — Так бывает, когда стареешь. Но мы здесь не для того, чтобы копаться в моей душе. Мы здесь, чтобы понять, что происходит с тобой и почему ты делаешь то, что делаешь.
— Что я делаю?
— Скажи мне сам.
И снова молчание.
— Послушай, я пришел не наказывать, не ругать тебя. Я пришел, потому что вижу несчастного ребенка, который чувствует себя все несчастнее и отчебучивает разные номера. А чего и хочу — так это видеть, что ты счастлив и, хас в’халила[33], весело проводишь время.
— Вы для этого пришли? Чтобы увидеть меня счастливым?
— Давай начистоту, — говорит рав Шули. — Я пришел, чтобы увидеть тебя счастливым, а еще — чтобы кое-что обсудить. До меня дошел один слух. Другие — такие же ребята, как ты, — они говорят, что ты, может быть, не готовился к пятничной контрольной. Что ты, может быть, — не приведи Бог — вырвал страницу прямо из Гемары и приклеил под партой: не только сжульничал, но и осквернил святыню, как поступили бы враги Израиля.
— Они так сказали?
— Сказали, — признает рав Шули, хоть ему и больно это признавать. — Но я ответил тем, кто нашептывал, — я им сказал: «Я знаю этого Гавриэля. Он хороший, сердце у него доброе, — сказал я им, — не может быть, чтобы он поступил так скверно. Наверно, это вы, мальчики, выдумываете всякую чушь».
Рав Шули, довольный тем, как преподнес проблему, вволю чешет свой подбородок, скрытый под бородой.
— А знаешь, я бы мог попросить у тебя твой экземпляр масехты — проверить, вдруг там недостает страниц. Но зачем мне пытаться удостовериться в том, что заведомо не может быть правдой?
Мальчик заливается краской, ежась на стуле:
— А теперь можно мне идти?
— Скоро уйдешь. После того как мы немножко посидим и позанимаемся дафом[34], который ты, возможно, не очень хорошо усвоил.
Мальчик переводит взгляд на потолок — как будто может видеть, как скапливаются наверху и стекают характерные звуки перемены.
Шули тоже поднимает глаза, пока перетаскивает стул к другой стороне стола, где сидит Гавриэль. Раскрывает свой экземпляр Гемары, кладет палец на текст Тосафот[35].
Держа палец на нужной строке, рав Шули наконец-то побуждает мальчика встретиться с ним взглядом — и обнаруживает, что глаза Гавриэля наполнены слезами.
— Не хочешь ли рассказать мне, что еще стряслось? Не может быть, чтобы ты так расстроился оттого, что не пошел гонять мяч.
— На выходных, — говорит Гавриэль, — когда мамы не было дома, я взял из ее стола деньги — я их украл. И пошел на угол, в магазин, и поел трефного.
— Трефного! — повторяет рав Шули, неподдельно огорошенный: такого признания он никак не ожидал.
— Конфет, которые мне хотелось попробовать. И я их съел.
— Зачем вообще такое делать, когда есть столько кошерных конфет? Почему тебе не хочется тех конфет, которые тебе дозволены?
— Их конфеты, — говорит мальчик, подразумевая неевреев, — на вид кажутся намного вкуснее наших.
— Значит, ты хотел узнать, так ли это?
Мальчик кивает, и на стол Шули падает слеза.
— Итак? Ну? — говорит рав Шули. — А на вкус каковы?
— Намного вкуснее, — говорит мальчик, и в его голосе звучит глубокое отчаяние.
Рав Шули искренне, заливисто хохочет.
С его стороны было бы неуместно сообщить ребенку, что так и есть: «их» еда намного вкуснее. Что Шули много лет жил — и ел — в их мире.
Вместо этого Шули говорит: