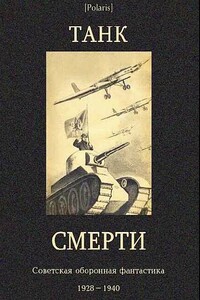А не поехать ли мне в Ярославль? Адрес Лукерьи, жены моего погибшего деда, у меня есть. Расскажу, как он воевал и где погиб. А спросят меня ежели – кто, скажу – бывший однополчанин. Так и сделал.
Только вот выехать из Коврова на Москву оказалось непросто. Пассажирские поезда ходили редко. В основном – военные эшелоны, да в них не сядешь: во время остановки перед вагонами часовые ходят, близко не подпускают, ни на какие документы даже не смотрят.
Немало промучившись, с трудом влез в переполненный вагон пассажирского поезда. Накурено было в нем – хоть топор вешай. Мне удалось усесться в уголке; ничего, что неудобно, ехать недалеко – до Москвы, а там пересадка на Ярославль.
Прибыли в Москву уже ночью. В город я не пошел – задергают патрули проверками документов, с вечера до утра комендантский час. Решив провести ночь на вокзале, я сходил на продпункт, получил по продовольственному аттестату хлеб, селедку и банку американской консервированной колбасы, прозванной в народе «вторым фронтом». Хоть такой
прок от их второго фронта. Не спешили открывать американцы в Европе боевые действия, берегли людей, но поставляли в Советский Союз по ленд-лизу боевую технику, продукты, станки исправно.
Тяжелый для Советского Союза выдался второй год войны – оборонительные бои шли без продыху, Сталинград на волоске висел. Но понемногу поднималась и крепла промышленность за Уралом, начала во все больших количествах поставлять на фронт танки, пушки, самолеты, снаряды и патроны, обмундирование. Хуже всего приходилось с продовольствием. Немцы оккупировали самые урожайные районы – Украину, Молдавию, Поволжье, подобрались к Кавказу. На Сибирь в этом отношении надежды мало – хоть и крепкие люди сибиряки, но в короткое сибирское лето урожая там не вырастишь.
Я переночевал, сидя на жесткой лавочке в холодном здании вокзала. Утром взял посадочный талон в кассе и едва втиснулся в переполненный вагон.
А через несколько часов сошел в Ярославле.
Сердце захолонуло. Это же мой город, здесь мне суждено будет родиться через три десятка лет в той, мирной жизни, здесь жили мои дед и бабушка, мать и отец. Странное дело – дед погиб, бабушка мне ровесница, отец младенец, а матери и вовсе еще нет на свете.
Город узнаваем в своей старой части – кремль и прилегающие к нему улицы почти не изменились.
Я шагал, вертел головой по сторонам и не мог надышаться пьянящим воздухом родного города. И еще беспокоило – как встретит меня бабушка? Узнать не сможет – не видела она меня никогда прежде, но ведь женщины не умом – нутром своим женским, интуицией чувствуют родную душу.
Вот и улица Революционная. Я сразу узнал дом деда. При приближении к знакомой калитке сердце заколотилось, перехватило дыхание. Нехорошо как-то стало, ноги ослабели.
Я присел на заснеженную лавочку.
– Товарищ военный, вам плохо?
Передо мною стояла девочка-подросток.
– Нет-нет, извини, это я так. Не подскажешь – это дом Колесниковых?
– Да, а кого вам нужно?
– Лукерью.
Едва не вырвалось – бабушку.
– Да вы пройдите, дома она.
Я поднялся, на негнущихся ногах подошел к калитке и постучал. Во дворе залаяла собачонка. Стукнула дверь дома, потом распахнулась калитка. Передо мной стояла моя бабушка – еще молодая, точь-в-точь как у Петра на фотографии, только в валенках и наброшенной шали. В горле застрял комок, и я даже слова не смог вымолвить.
– Вы к кому?
Я взял себя в руки:
– К вам. Вы же Лукерья Колесникова?
Она кивнула, внимательно глядя на меня:
– Да вы проходите.
Мы зашли в дом.
– Раздевайтесь, чайку попьем.
Я сдернул шапку, снял шинель, повесил на вешалку. С любопытством огляделся. Бедновато дед жил. Печь посредине комнаты, кровать, застеленная лоскутным одеялом, стол с тремя стульями, за занавеской в углу – люлька с ребенком.
– Садитесь, я сейчас.
Луша достала из печи чайник. Похоже, чайник все время в ней стоял – один бок был закопчен. На стол поставила стаканы в подстаканниках, тонко нарезанный черный хлеб в вазочке. Я спохватился, достал из вещмешка банку консервированной американской колбасы и поставил на стол. Как я пожалел, что хлеб с селедкой уже съел!