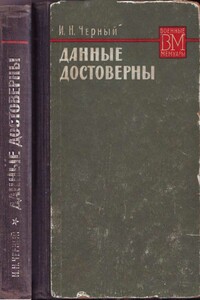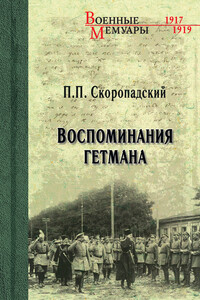Командный пункт без надежной связи в бою утрачивает свое оперативное предназначение. Я всегда держал под контролем работу связистов. У блиндажа узла связи нас встретил рослый бравый офицер, начальник связи дивизии майор Н. Д. Григорьев. Мы с ним воевали в одной бригаде на Северном Кавказе. Не припомню случая, чтобы у него были перебои в связи даже в тех случаях, когда я выдвигал свой передовой командный пункт в боевые порядки полков. В прошлом преподаватель из Таганрога, Николай Дмитриевич в совершенстве освоил войсковую специальность. Под стать ему был и его помощник по радиосвязи майор Н. А. Богомолов, тоже бывший преподаватель одного из московских институтов. Сработались они отлично и понимали друг друга с полуслова. И сейчас у Григорьева все вопросы связи в предстоящем бою оказались четко обработанными.
Командующего артиллерией дивизии майора С. Г. Веробьяна на своем месте мы не нашли — он был где-то на огневых позициях 823-го артиллерийского полка. Я приказал вызвать его. Прибежал запыхавшийся майор.
— Ну что, проверили? — спросил я. — Все окопались?
— Да, все окопались, — ответил Сергей Георгиевич.
— До вашего прихода?
— Так точно, до моего прихода.
— Значит, обошлись без нас. Когда же, товарищ майор, мы научимся сначала решать главные вопросы. На огневые позиции можно было для проверки послать офицера штаба, а вы еще не доложили мне свои соображения об артиллерийском наступлении. Времени у нас на подготовку только сутки.
— Товарищ полковник, доложу через час.
— Вот ведь грамотный, с академической подготовкой и исполнительный офицер, а организованности в работе нет, определить главные задачи для себя и своего штаба не может, — рассуждал я вслух после ухода Веробьяна.
— Будем ему помогать, — отозвался Сафонов.
И мы разошлись по своим блиндажам.
На самодельном столике передо мной карта с решением на бой. После встречи с офицерами штаба, а в бою не так уж часто приходится с ними встречаться, во мне укрепилась убежденность в правильности решения, возникло чувство гордости за коллектив офицеров командного пункта, который трудился и днем, и бессонными ночами.
Решение Военного совета армии претворялось в жизнь. Первая его часть была уже по существу выполнена. После перегруппировки дивизий и занятия исходного рубежа для наступления были проведены все необходимые мероприятия, которые называются подготовкой к бою.
У нас с командирами стрелковых, артиллерийских полков, танковых батальонов и поддерживающей штурмовой авиации было проведено полевое занятие. Уточнили оборону противника, полосы наступления стрелковых полков. Мной были разработаны «тактические летучки» по возможному ходу боевых действий. В решении тактической задачи по сложившейся обстановке детально отрабатывались все вопросы организации взаимодействия с танкистами, артиллеристами и штурмовой авиацией. Занятия проходили у меня на хорошо замаскированном командном пункте. А тактическая обстановка создавалась на реальной местности.
Здесь мне невольно вспомнилась зачетная военная игра в академии по теме «Стрелковый полк при прорыве позиционной обороны противника», которую с нами — слушателями 2-го курса — проводил комбриг В. Н. Символоков. «Управляйте боем стрелковых батальонов, давайте большую плотность артиллерийского огня», — говорил он при разборе. А сейчас перед нами реальный противник, засевший в обороне с множеством пулеметов, орудий и танков. И я говорю командирам: «Одновременно ведите в атаку стрелковые и танковые батальоны, быстрее и точнее давайте заявки на удары штурмовой авиацией».
Командиры полков первого эшелона дивизии подполковники Александр Прокофьевич Епанешников и Николай Павлович Мурзин в решении «тактических летучек» показали боевую зрелость. Они свободно управляли своими частями при значительном усилении их танками и артиллерией. На должность командира 1050-го стрелкового вместо погибшего на «линии Вотана» Федора Ивановича Мицула был прислан подполковник В. Л. Лысов. Я не энал этого офицера и потому поставил этот полк во второй эшелон, а оказать помощь новому командиру поручил своему заместителю полковнику Н. И. Мамчуру.