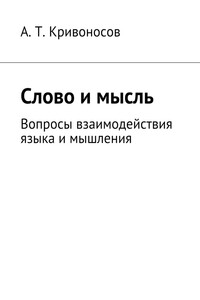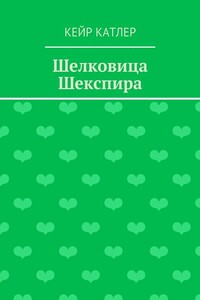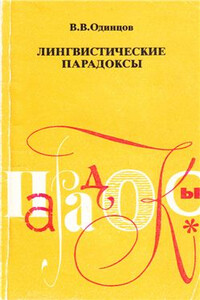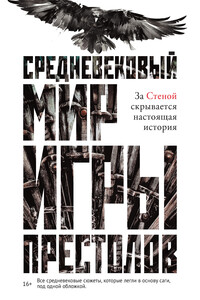Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - страница 14
Этот «образовательный» и коммуникационный контекст неофициальной еврейской литературы в дальнейшем будет нам интересен, поскольку он определял культурные аллюзии, интертекстуальность, а в некоторых ситуациях и многоязычие ее текстов. Особая поэтика этой прозы рождается из неодинаковой дистанции авторов по отношению к еврейской традиции, разного отбора еврейских/нееврейских прототекстов и разных форм освоения традиции.
Поэтика (анти)империальной (анти)ассимиляции
Описанным выше процессам литературной «археологии» предшествовала долгая история аккультурации. В 1930–1940‐х годах авторы русско-еврейской литературы имели все основания предполагать, что их читатель хорошо знаком с реалиями этнического еврейства: последние были еще частью живой повседневности или совсем недавнего прошлого. В то же время эти реалии уже изображались и интерпретировались в духе интернациональной утопии. В своей ранней повести «Ярмарка», опубликованной в 1941 году, Борис Ямпольский явно обращается к читателю, сведущему в Танахе, способному воспринять многочисленные аллюзии на иудаистские тексты и на еврейский фольклор, понять идишские выражения и словечки, а сверх того отсылки к Бабелю с его мистическим субтекстом революции (см.: [Гензелева 1999: 165–168]). В то же время он выстраивает в повести фабулу, в которой архетипичные Ostjuden (евреи Восточной Европы), дети страданий и нищеты, противопоставлены трудолюбивым и жизнерадостным «новым» евреям из того же штетла – детям молодого советского государства. В традиционном сюжете о поиске еврейского счастья самые счастливые обитатели штетла обладают незаурядной физической силой, простыми рабочими профессиями и совершенно не интересуются изучением Талмуда. Образы этих новых трудящихся выписаны в стиле раннесоветского конструктивизма: они масштабны, красочны, схематичны и антипсихологичны, а орудия труда и производство эстетизированы:
Шли маляры с зелеными и красными кистями, обещая заказчикам и рай, и ад; и грузчики с веревками на шее, готовые все перенести, и, если встречали телегу, смотрели на нее как на пушинку; и дровосеки […] с большими топорами и длинными пилами, готовые рассечь и распилить все, что угодно: на лес пойдут, и леса не станет – только небо и земля! [Ямпольский 1995: 45]
В имперском пространстве сравнительно молодого СССР Ямпольский переводит культурный язык своего народа на сверхнациональную советскую lingua franca. Одновременно он еще может представить читателям колоритный украинско-еврейский «оригинал» в пределах того же текста без лексических и тематических купюр, пояснений и комментариев. Тогда и в последующие десятилетия еврейские литераторы развивали техники самоцензуры: от де-этнизации письма до двуязычия, или неявной возможности двойного прочтения (см. «Над андеграундом», с. 64). Параллельно с этим и по большей части в культурном подполье и в эмиграции еврейский ренессанс с 1960‐х годов разрабатывал (контр)стратегии «обратного перевода», лексического воспоминания и «иудаизации» литературного материала. Так рождались поэтики антиассимиляции, ставшие своеобразным каноном в постсоветской прозе, изобилующей еврейскими выражениями и гибридной стилистикой. Такого рода реэтнизацию и автоэтнографию51 можно объяснить не только ослаблением или отменой цензуры, но и ощущением потери. Литература становится пространством образования и историографии, авторы – культурологами и переводчиками реалий собственного народа. Нечто похожее, как было упомянуто выше, происходит и в других национальных сегментах рассыпающейся или уже отмершей институции «многонациональной советской литературы».