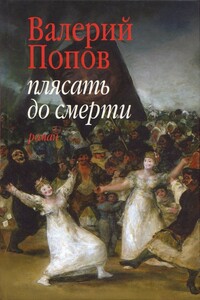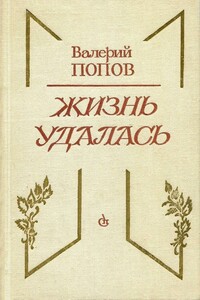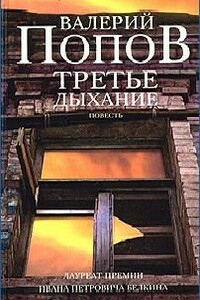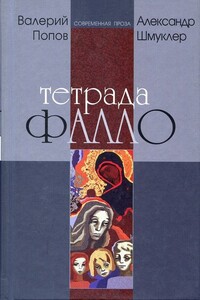А если разобраться... Он же сам докладную эту, комиссии самоконтроля, вверх по инстанции переправил. Без него вообще ничего бы не было!
И вот меня директор вызывает. Так отечески, неофициально:
— Ты что же... на соревнованиях-то не был?
Ну что тут можно сказать? По-моему, такие случаи есть, когда вообще бесполезно что-либо говорить.
— Бывает, — только говорю. — Оступился!
Он через кабинет прошел, за стол свой уселся и говорит:
— Да, но все оступаются вниз. А вы оступились вверх!
На следующий день выходит на работу мой друг, меня не замечает в упор. Но чем я-то виноват, чем? Он сам же и приказ тот составил, директор подписал только. Конечно, можно сказать, что на него комиссия самоконтроля давила. Но если честно — много ли значит эта комиссия?! Ничего фактически она не значит! И народу в ней, в тот день, всего один человек был. Он сам же и был.
Но он таки крепко переживал. Даже руки на себя наложил. В обычной своей манере — набухал полстакана яду и полстакана молока. Чтобы отравить себя, но тут же и спасти. По крайней мере сделать все возможное.
Мы досидели в магазине до закрытия, потом пришлось все же уйти. Друг шел молча, обиженно. На кого теперь он обиделся? Боюсь, как ни странно, опять почему-то на меня.
Что такое, в конце концов? За что, собственно, я должен нести этот пластмассовый крест?
Как я уговаривал его тогда не брать в голову эти скалы. Или, на крайний случай, забыть уж на время о работе. Пришел накануне и на колени перед ним бухнулся! Все проходят удивленно:
— Ты чего это — на коленях стоишь? — говорят.
— А, — говорю, — отстаньте!
...Мы едем в дребезжащем троллейбусе. Низкое солнце, сложным путем проходя между листьев, вдруг взблескивает, всплескивает, заставляет жмуриться.
Потом мы зачем-то приходим к нему домой, ложимся на тахту и засыпаем.
И вдруг — о-о! — снова вскочил, заметался!
— Понимаешь, — говорит, — должна мне девушка звонить в девять часов. Насчет встречи. Сегодня утром в автобусе познакомился. А с другой, еще заранее, тоже встретиться договорился.
— Тоже в девять, понятно?
— Ну?!
Всю жизнь только тем и занимался, что ставил себя в безвыходные положения!
Потом, без одной минуты девять, решил все-таки идти, явно не успевая к той и не дождавшись звонка этой.
Довольно умело лишил себя всяких надежд.
Уходя уже, вдруг заныл, спохватился:
— Да-а-а! А пока я подобным образом жизнь прожигаю, ты небось ряд крупных открытий сделаешь?
— Ну что ты? — говорю. — Какой там ряд! Да нет, наверно, все-таки в баню пойду.
— Не ходи, — говорит, — а? Останься тут... По телефону поговори. Извинись.
Я еще должен и извиняться! Ну ладно. Глянул так злобно.
— Счастливчик! — говорит. И ушел.
Боже мой! Что случилось с ним? И, Боже мой, что случилось со мной? Почему все ушло? В чем ошибка? И вдруг понял: а никакой ошибки и нет! Глупо думать, что жизнь будет идти, а все тебя по-прежнему будут любить!
Все нормально. Нормальный ход.
Звонок. Звонок. Я подхожу, снимаю трубку.
—Алле. Кто это говорит? — говорит тоненький голосок.
— Это, — говорю, — говорит совершенно другой человек!
— Ой, — голосок. — Как интересно!
«А что делать?» — с отчаянием думаю я.
Теперь будет говорить, что я отбил у него девушку! Обошел по службе и отбил у него девушку. Хотя это далеко и не так. Хотя это далеко и не так...
Что, вообще, за дела? Позвонили, вошли.
— Вызывали? — спрашивают.
— Не помню, — говорю.
И так уже словно виноватым себя чувствую, что не вызывал. Хотя еще не знаю — кого.
Подошли к телевизору, один ногой его пнул. Тот так закачался на ножках, затрясся, как желе.
— Ножки, — говорят, — отвинтить придется.
— Пожалуйста, пожалуйста, — говорю. Свинтили ножки, подали мне. Долго думали, к чему бы еще придраться. Взяли все же, со вздохом понесли. Один, побойчее, в дверях поворачивается, подмигивает:
— Ловко мы у тебя, хозяин, телевизор увели? Кто такие — неизвестно. Куда увезли — непонятно. И квитанции никакой не оставили.
Я так улыбнулся, понимающе (хотя непонятно, в общем, что же я, собственно, понимал?).
Уехали они, а я долго так, часа еще полтора, с такой улыбкой ходил, фальшиво-радостной.