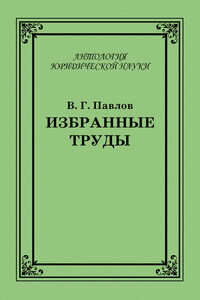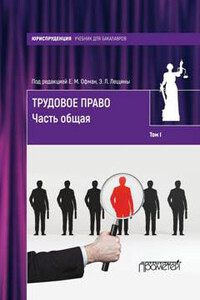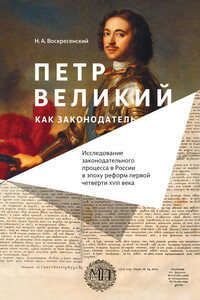Избранные труды - страница 29
Приведенная точка зрения представляется верной, вытекающей из сути применения института давности. После совершения действия (бездействия) лицо не может, как правило, вмешаться в развитие причинной связи. Следовательно, субъект преступления обычно не властен повлиять на последующее за действием (бездействием) объективное развитие событий.[78] Отсюда следует, что общественная опасность лица определяется на момент совершения общественно опасного действия (бездействия). По рассматриваемому вопросу С. Г. Келина обоснованно, с нашей точки зрения, пишет, что «поскольку основанием освобождения от уголовной ответственности за давностью служит отпадение или существенное снижение общественной опасности личности виновного после совершения им преступления, постольку с точки зрения применения давности нас интересует поведение этого лица после прекращения им преступного поведения. Несовершение нового преступления, разрыв с преступной средой, прекращение антиобщественного образа жизни и тому подобные факты действительно положительно характеризуют лицо после совершения им преступления. В то же время факт наступления общественно опасных последствий не влияет на степень общественной опасности этого лица».[79]
В тех случаях, когда объективная сторона материального преступления слагается из двух или более действий, то исчисление сроков давности должно отсчитываться с момента совершения последнего действия. Так, спекуляция совершается путем скупки и перепродажи товаров или иных предметов с целью наживы (ст. 154 УК РСФСР). Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление отсчитываются с момента осуществления последнего из действий – перепродажи предметов спекуляции.
При продолжаемых преступлениях, состоящих из ряда однородных преступных актов, днем окончания преступления является день совершения последнего из однородных преступных актов. Такое решение рассматриваемого вопроса было дано в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям».[80] В том же постановлении в п. 4 дано решение вопроса о начале и окончании длящегося преступления: «Длящееся преступление начинается с момента совершения преступного действия (бездействия) и кончается вследствие действия самого виновного, направляемого к прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих совершению преступления (например, вмешательство органов власти)… Срок давности уголовного преследования в отношении длящихся преступлений исчисляется со времени прекращения по воле или вопреки воле виновного (добровольное выполнение виновным своих обязанностей, явка с повинной, задержание органами власти и др.)».[81] Из приведенного постановления следует, что в тех случаях, когда виновное лицо не задерживается специальными органами или оно не является с повинной, то нет начала истечения срока давности. В 1963 г. (14 марта) в рассматриваемое постановление было внесено дополнение, согласно которому виновное лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения длящегося преступления прошло пятнадцать лет и давность не была прервана совершением нового преступления.[82]
Это дополнение постановления Пленума Верховного Суда СССР вступает в противоречие как с самим постановлением, так и с законом, т. е. со ст. 41 Основ. В постановлении Пленума указано, что началом течения срока давности по длящимся преступлениям является день задержания виновного лица или же явка его с повинной. Из дополнения следует иной вывод: началом срока давности является день совершения преступления, а конец – истечение 15-летнего срока. К тому же установление 15-летнего срока давности по длящимся преступлениям не вытекает из ст. 41 Основ, в которой такой срок давности установлен лишь для тех случаев, когда виновное лицо скроется от следствия или суда.[83]
Ряд юристов поддерживает спорный, с нашей точки зрения, вывод Верховного Суда СССР по вопросу об исчислении сроков давности осуждения за длящиеся преступления. Так Г. З. Анашкин и М. Ефимов считают необходимым отказаться от уголовной ответственности за побег по истечении пятнадцати лет.