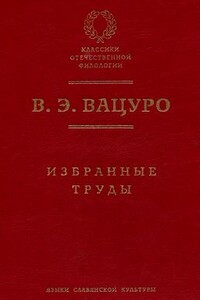Между тем его беспокоила судьба «Московского вестника», и он писал Дельвигу: «Я не могу его оставить на произвол судьбы и Погодина». Приходилось перераспределять стихи.
22 августа Бенкендорф возвратил Пушкину очередную партию стихотворений. Император дозволял напечатать «Ангела», «Стансы» и третью главу «Онегина»; из «Графа Нулина» было предложено исключить два «неблагопристойных» стиха и столько же — из «Новой сцены между Фаустом и Мефистофелем»; песни о Стеньке Разине запрещались вовсе. Плетнев поспешил сообщить об этом Пушкину. Он полагал, что все стихи — полученные и неполученные — предназначались Дельвигу, но Пушкин судил иначе: у него на руках был журнал[202].
Ожидая решения императора, Пушкин отослал Погодину отрывок из четвертой главы «Онегина», — вероятно, тот самый, который вначале был отдан Дельвигу, — и добавил к нему только что написанного «Поэта» («Пока не требует поэта…»), — стихи пошли в 20-й и 23-й номера журнала. «Фауста» Пушкин также берег для Погодина, равно как и другие стихи: «Стансы», песни о Разине. Из возвращенного Бенкендорфом запаса он отдал Дельвигу одного «Ангела».
Как раз в это время — в августе 1827 года — до него дошло известие о намерении Погодина издать альманах, и он обеспокоился. Тогда-то он и написал Погодину письмо об «альманашной грязи», которой нельзя марать рук, стращал его утратой репутации и обещал на будущий год участвовать в «Вестнике» «безусловно деятельно» и для того разорвать связи с альманашниками обеих столиц[203]. Вряд ли он, впрочем, верил всерьез, что выполнит это последнее обещание.
Пушкин вернулся в Петербург 16 октября. На пути из Пскова ему предстояла неожиданная встреча. На станции Залазы у Боровичей подъехали тройки с фельдъегерем: везли арестантов, — и Пушкин бросился в объятия бледного и худого человека с черной бородой. Жандармы их растащили, угрожали, ругали. Пушкин ничего не слышал. Он прощался с Кюхельбекером. Больше они не увиделись никогда.
17 октября в семье Дельвигов праздновали именины Андрея и пили за его здоровье из привезенного Пушкиным черепа одного из баронов Дельвигов. Пушкин читал законченное им послание, которое должно было пойти в альманах.
В тот же день — 17 октября — рукопись альманаха была представлена в цензуру. Наблюдал за ней Сомов — он и получил ее обратно «для доставления»[204].
Одобрение рукописи не означало, однако, что Дельвиг закончил дела с альманахом и цензурой. Напротив, ему предстояли самые хлопотные дни. Корпус альманаха был собран лишь в первом приближении; рукописи — и в их числе такие, от которых отказываться было бы грешно, — продолжали поступать, как всегда бывает, в последнюю минуту. Их отправляли к цензору дополнительно — и здесь-то вступали в дело личные связи. Издание, уже, казалось бы, подписанное и сброшенное с плеч долой, продолжало тяготеть над цензором почти до нового года.
27 октября по докладу цензора «Цветов» — уже знакомого нам К. С. Сербиновича — Петербургский цензурный комитет исключает из альманаха две «пьесы». Одна из них была «отрывком из дневных записок Русского офицера» Ф. Глинки и содержала «обозрение происхождения масонских лож». Ложи были строжайше запрещены еще в 1822 году; правительство уже тогда — и не без основания — видело в них рассадник вольномыслия и своего рода организационную репетицию тайных обществ; сам Глинка был активным деятелем ложи «Избранного Михаила», близкой к Союзу Благоденствия. Его исторический экскурс, конечно, возбуждал ассоциации нежелательные. Второй «пьесой» было «Сравнение Вольтера и Руссо» В. В. Измайлова; оно было исключено «за неумеренные отзывы, особенно в похвалу Руссо»[205].
Итак, старый поклонник Руссо также принял участие в альманахе. В «Северных цветах» появилась лишь его басня — перевод из Флориана; рассуждение же его оказалось не ко времени. Руссо был противником Вольтера, и еще лет двадцать назад можно было искать в нем противоядия против религиозного скептицизма вольтеровского толка — но сейчас не это было важно: на Руссо ретроспективно ложился отблеск Французской революции.