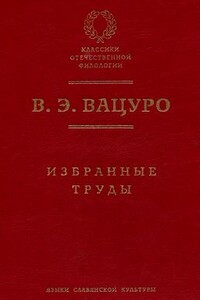И далее, в том же духе: «Когда постиг меня судьбины гнев», «опальный затворник», «в глуши, во мраке заточенья»…
Дело было не только в «заглавных буквах друзей», как выражался Бенкендорф.
12 марта Главный цензурный комитет отправил эти стихи на усмотрение министра народного просвещения.
18 марта министр разрешил их: они прошли высочайшую цензуру, и ответственность с него и с цензоров, таким образом, снималась[188].
22 марта Пушкин получил, наконец, письмо Бенкендорфа и уверил шефа жандармов, что немедля напишет Дельвигу об исключении заглавных букв имен — и вообще всего, что может подать повод к «невыгодным»[189] для него заключениям.
Он успел сделать это в самый последний момент: альманах уже переплетался и 25–28 марта вышел в свет. Инициалы друзей были убраны. Самые же стихи Пушкина заключали книжку: их набирали последними. Дельвиг мог бы пожертвовать чем угодно — только не ими.
Глава IV
Пушкинский альманах
К марту 1827 года выяснилось, что журнальные отношения Пушкина вовсе не безоблачны.
Издатели «Московского вестника» были, конечно, людьми порядочными, учеными и способными, — даже талантливыми, но для журнала всего этого было недостаточно. «Московский вестник» был глубокомыслен и сух.
Презирая «коммерческую журналистику», издатели в то же время ревниво следили, как раскупается журнал, потому что состояние редакционной кассы их не могло не волновать. У них начались денежные осложнения — и прежде всего с Пушкиным.
Пушкин не хотел «работать исключительно журналу» и не хотел входить в пай — он рассматривал себя как сотрудника, а не соиздателя.
Отсюда происходили трения и взаимные неудовольствия; на них накладывались трения и неудовольствия среди самих издателей но венцом всего являлось растущее сознание, что для разногласий есть и более глубокие причины. В самых основах своего литературного воспитания, связей и взглядов Пушкин и «любомудры» оказывались различны и кое в чем даже враждебны.
Воспитанные на Шеллинге, на немецких историках и философах-романтиках, они склонны были видеть где-то в глубинах пушкинской личности человека чуждого им восемнадцатого века, с его «классическими», «французскими» предрассудками; в гармонической его поэзии, которой они так безотчетно восхищались поначалу, они усматривали недостаточную «философичность». Слишком легко, слишком изящно, а потому неглубоко. Они предпочли бы более сложный, трудный и дисгармоничный язык метафизической поэзии. Их раздражал вольтерьянский скептицизм Пушкина к религии и философии.
Они избегают споров, но в глубине души уверены, что он говорит «нелепость».
Они, конечно, отдают Пушкину должное, они принимают его — но выборочно. Но ведь Пушкин и читает им выборочно — историко-философского «Бориса Годунова», фольклорные «Песни о Стеньке Разине»…
Пушкин тоже отдает им должное, сознавая при этом, что за определенными пределами взаимное понимание оканчивается. Тогда он начинает цитировать для себя знаменитую басню Хемницера о школяре, начитавшемся метафизических бредней: школяр сидит в яме и отказывается от спасительной веревки, покуда не получил для нее философских дефиниций.
«Моск. <овский> Вестн.<ик> сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?»[190].
И — что для нас очень важно — издателям «Московского вестника» органически чужд весь пушкинский круг 1820-х годов. Они холодно относятся к поэзии Дельвига и откровенно не приемлют Вяземского и Баратынского.
Все это для них — поэзия прошлого, доживающая свой век.
Если бы Дмитрий Веневитинов провел больше времени в общении с кружком Дельвига, он, может быть, успел бы сблизить с ним своих московских друзей и если не преодолеть, то смягчить разногласия.
Но дни юного поэта уже были сочтены. Случайная простуда, пустяк, которому не придавали значения, уложила его в постель на неделю. 15 марта он скончался на руках Алексея Хомякова. Рассказывали, что в предсмертном бреду он звал Дельвига.
В Москве в беспредельном отчаянии рыдали Погодин, Соболевский, Владимир Титов.
В доме Дельвигов было горе.
Хомяков подарил Анне Петровне Керн посмертный портрет Веневитинова. Анна Петровна сделала для него черный альбом. Дельвиг вписал туда свою эпитафию покойному другу: антологическую надпись, где короткий век юноши сравнивал с мгновенной жизнью розы; подобно благоуханному цветку, он не успел испытать горечи жизненных невзгод. Эти стихи появятся в «Северных цветах»