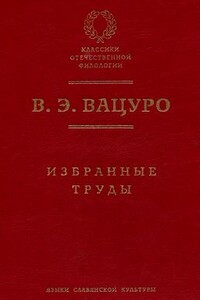Избранные труды - страница 389
Между тем образ замерзшей воды, поразивший воображение Овидия резким контрастом между обычным агрегатным состоянием аморфного, подвижного, текучего вещества и новым состоянием, когда внешняя недобрая сила лишила его привычных свойств, движения и как бы самой жизни, продолжал варьироваться в художественном сознании автора «Дзядов». Он уходил своими истоками еще в метафорический язык «Крымских сонетов», где впервые обозначился «классический оксюморон» «сухой океан»; в специальном исследовании В. Кубацкий проследил движение этой метафоры в мировой поэзии начиная с античности[1301]. В сонете же «Вид гор из степей Козлова» мы находим и первоначальную кристаллизацию образа «оледенелого моря» («morze lodu») — того самого, который с новым художественным смыслом появился в вариантах «Дороги в Россию».
Нет сомнения, что и в этом случае в поле зрения Мицкевича была целая традиция поэтического словоупотребления, включавшая и русские образцы. «Замерзшее море» (в модификации: море с волнами, что придает образу новый оттенок выразительности) есть в швейцарских сценах «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина; описывая ледники Гриндельвальда, Карамзин замечает: «Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед; но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел пиитическое воображение»[1302]. «Письма русского путешественника» Мицкевич знал, но задержалось ли его внимание на этом месте — неизвестно.
Существовал, впрочем, еще одни литературный аналог этой сцены, который мог быть известен Мицкевичу, — «Ухабы. Обозы» из «Зимних карикатур» Вяземского. Стихи эти были напечатаны в «Деннице» М. А. Максимовича в 1831 г., однако написаны они зимой 1827–1828 гг., во время поездки Вяземского по Пензенской губернии. Сразу же после приезда в Москву Вяземский возобновил общение с Мицкевичем, которое продолжилось и в Петербурге; в мае — июне 1828 г. оно достигает наибольшей интенсивности. Вполне вероятно, что Вяземский рассказал ему о впечатлениях своего путешествия в мороз и метель по занесенной снегом степи; они отразились на страницах его записной книжки и в стихах, где есть точки соприкосновения с «Дорогой в Россию»:
(«Метель»)
Это довольно близко к описанию снежного моря, поднятого вихрем. В другом месте — в «Ухабах» — находим развитие карамзинского образа:
Далее возникает образ, навеянный «Крымскими сонетами» Мицкевича:
(«Ухабы, Обозы»)[1303]
Заметим, что Вяземский дал в свое время прозаический перевод «Аккерманских степей» с этим образом: «Вплывая на простор сухого океана, колесница ныряет в зелени и, как лодка, зыблется среди шумящих нив…».
Но, как мы видели, и мотив ледяных волн также присутствовал у Мицкевича: «Не Алла ли поднял оледенелое море»[1304].
У Вяземского произошло переключение в иную образную сферу: метафоры южного пейзажа стали характеристикой севера. Если наше предположение, что Мицкевич знал эти стихи, верно, то он получил обратно то, что Вяземский взял от него, — но вместе получил и художественный импульс для новой картины.
В «Отрывке из III части „Дзядов“» мы находим интересующий нас образ еще раз и в новой, наиболее экспрессивной модификации — уже не моря, но водопада, схваченного льдом. Он оказывается непосредственно связан с другим, уже известным нам образом — взнесенного над бездной коня.