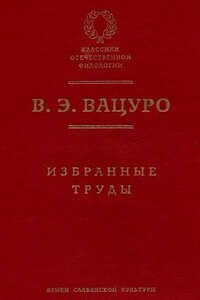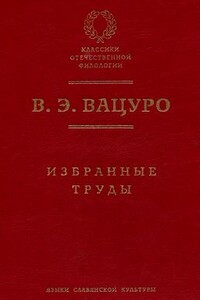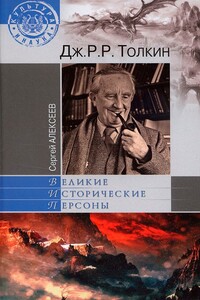Буржуазный радикал Полевой и буржуазный конформист Булгарин вступили в тактический союз против общего врага — «литературной аристократии»: Пушкина, Жуковского, Вяземского, Дельвига, Баратынского и их идейных предшественников, к которым Полевой причислял, в частности, Карамзина.
Отсюда — нападки на развращенность и социальное бесплодие «высшего света», которому противопоставлялись энергичные, нравственно устойчивые и талантливые люди «среднего класса»; отсюда и полемический пафос «Истории русского народа» Полевого, создававшейся в противовес «Истории Государства Российского».
В этой критике дворянства были несомненные позитивные черты. Но в целом в конкретных условиях Российской империи 1830-х гг. эта, на первый взгляд, столь прогрессивная литературно-общественная позиция приобретала — не только у Булгарина, но и у Полевого — ярко выраженный консервативный смысл.
В тридцатые годы в России продолжался период дворянской революционности. Дворяне вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. Дворяне создали важнейшие идеологические документы декабристского движения. Они оказались наследниками буржуазно-демократических идей 1789 г., ибо «третье сословие» в России еще не успело развиться.
Пушкин улавливал особенности социальной жизни России, когда утверждал (с нашей точки зрения, не вполне справедливо), что именно дворяне, лишенные своих поместий, и «составляют у нас род третьего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного»[1200]. Он думал при этом о себе, о князе Вяземском с его номинальным княжеством, и о нищем бароне Дельвиге.
Реальное же «третье сословие» в 1820–1830-е гг. в России было как раз хранителем косных, патриархальных, консервативных устоев и в политической, и в моральной, и в интеллектуальной сфере. На него опиралось и правительство в своей борьбе с политическим вольнодумством и религиозным скептицизмом. «Самодержавие, православие, народность» — эта официальная правительственная формула была понятна и близка не культурной элите, а именно среднему грамотному читателю, который составлял основную массу подписчиков «Северной пчелы» и «Московского телеграфа» и к литературным исканиям Пушкина и Баратынского был невосприимчив.
Чтобы воспитать читателя с необходимым для этого философским, социальным, эстетическим кругозором, нужна была журнальная трибуна и литературная критика. Но к 1830 г. — к моменту появления «Литературной газеты» — «Северная пчела» и «Московский телеграф» были полновластными хозяевами читательских вкусов: они предлагали каждый свою, а иногда и общую шкалу социальных и эстетических ценностей и по этой шкале оценивали современную литературу.
Газета Дельвига начинает борьбу за читателя с разрушения «коммерческой эстетики».
Если читать подряд критические статьи Дельвига, вероятно, может показаться странным экзотический выбор книг для рецензирования. «Берлинские привидения» псевдо-Радклиф, «Послание Выпивалина к водке и бутылке…» Ф. Улегова, «Новейшее собрание романсов и песен» и подобный же песенник под названием «Северный певец…». Но этот выбор целенаправлен. Все это — «массовая культура» (пользуясь современным термином), «мелкотравчатая» литература для малообразованного читателя, нижний пласт «коммерческой словесности». Его популярность — показатель, с одной стороны, культурного уровня общества и, с другой — уровня самой «литературной промышленности». Это первые и уродливые проявления буржуазного предпринимательства в литературе. Издатель «Северных цветов» Дельвиг не мог возражать против того, чтобы книга становилась товаром, но он был против экспансии коммерции в область духовной культуры.
С этой точки зрения он оценивает и творчество Булгарина. И «нравственно-сатирический», и исторический роман Булгарина был обращен как раз к «средним классам» и ориентирован на их социальные и моральные представления и на их литературные вкусы. Булгарин модернизировал ту область литературы, на которой они были воспитаны: авантюрный роман и «роман тайн», где центр тяжести лежит на фабуле, а не на характере; где бытовая сфера понимается не как форма исторического бытия народа, а как иллюстрация общей моралистической идеи; где воспитательная роль произведения достигается не логикой характеров и событий, а прямым публицистическим комментарием автора — и где поэтому происходит четкое разделение на персонажей положительных и отрицательных.