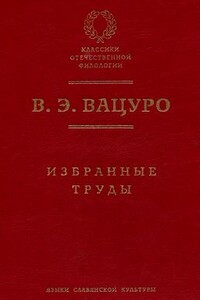Любовь Ореста Сомова, ставшая для него источником мучений, унижений, ревности, стесняла и, должно быть, пугала ее. Трудно представить себе, чтобы она вовсе не испытывала сочувствия к своей страдающей жертве, — но теперь она стремилась держать ее на расстоянии интеллектуального общения. Похвалы его письмам были в ее устах, конечно, совершенно искренни, но Сомов, ослепленный своей страстью, не встречая на нее ответа, ничего уже не видел в подлинном свете. Его пылкие признания, мольбы и жалобы имели обратное действие: они становились докучны и вызывали досаду.
Тем более, что его ревность и подозрения были, кажется, не совсем безосновательны.
27 мая, на следующий день после его отчаянного письма, где он разрывал отношения со своим кумиром (сделать это, как и следовало ожидать, он не сумел), в альбоме Владимира Панаева появилась маленькая изящная запись, — запись дилетанта, вполне овладевшего техникой стихотворного экспромта. Она шутлива, как и полагается экспромту, но в шутке слышится неподдельное восхищение:
Нет, нет!
Панаев не поэт!
Скажу назло, наперекор всех мнений,
Нет, нет, он не поэт — он гений!
Под стихами стоит подпись: «Софья Пономарева»[579]. Даже близкие друзья и адепты Панаева, и даже в шутку, не обращали к нему такого титула. Но… страсти не имеют законов.
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
28 мая, в 11 часов утра
Жребий брошен; это письмо должно дойти по назначению; это мой смертный приговор… Какая пытка! душа растерзана, сердце отдано в жертву тысячам мук, голова идет кругом!.. Помоги мне, праведное небо! дай мне довольно сил, чтобы вручить это роковое письмо.
В полдень
Ах! слово привета, сударыня! и вы удерживаете меня на краю бездны…
У несчастного влюбленного недостало духа отправить свое прощальное письмо. У него не было сил даже окончить свою запись — проект нового послания.
* * *
Панаев отвечал на комплимент Пономаревой. 28 мая в альбоме Софьи Дмитриевны появляется несколько его стихотворений.
Пускай другие в том согласны,
Что вы и милы, и прекрасны,
Что взоры маленьких китайских ваших глаз
Равно и молодым, и старикам опасны,
Что на беду для бедных нас
Природа вас умом блестящим наделила…
Нет, Панаев не был гением. Ему недоставало артистизма, которым была щедро наделена ученица Измайлова. То, что он писал, было почти парафразой пономаревского экспромта. Он воспроизводил мадригальную схему: похвалы от чужого имени, парадоксальное их отрицание — и новая похвала, уже более высокого порядка. Но Софье Дмитриевне понадобилось для этого четыре строки, в которых играла поэтическая энергия парадокса и каламбура. Панаев пишет четырнадцать строчек вялых и прозаических похвал, с концовкой смазанной и неискусной:
Мое совсем иное мненье:
Так точно вы в глазах моих
Есть только женщин украшенье
И вместе зависть их!
[580]Это был «разыгранный Фрейшиц Перстами робких учениц». Второе стихотворение, — «Желание», записанное им в этот день, гораздо более интересно.
Анакреон, в жару мечтаний,
Хотел быть Нисы башмачком,
Чтоб ножку милую сжимать тайком;
У всякого свой род желаний:
Я лучше б сделаться хотел
Моей Глицерии корсетом,
И признаюсь — уверен в этом,
Что мне счастливейший достался бы удел!
[581]Современный читатель почти наверное остановится перед этими стихами с тайным чувством неловкости, как будто он стал случайным свидетелем интимной сцены. Но он ошибется; психологический смысл записи гораздо сложнее и тоньше, чем простой и грубый эротический намек.
На обратной стороне того же альбомного листа, где поместился первый из процитированных нами мадригалов, записаны стихи, на первый взгляд еще более откровенные:
Из Антологии.
1.
Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет,
Трикрат блаженнее, кто говорит с тобой;
Тот полубог прямой,
Кто выманить, сорвать твой поцелуй умеет;
Но тот завиднейшей судьбой,
Но тот бессмертьем насладится,
Чьей смелою рукой твой пояс отрешится!
2.
Родокла слишком уж гордится красотой:
Едва ли удостоит взглядом,