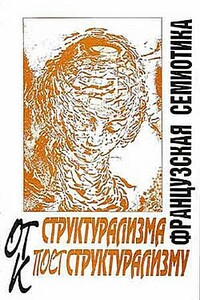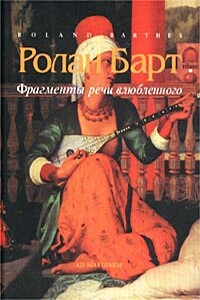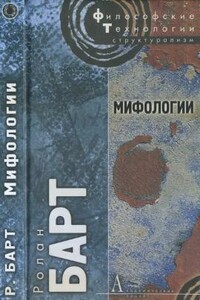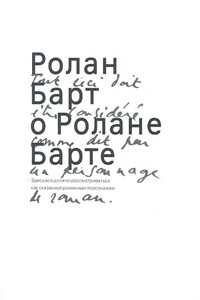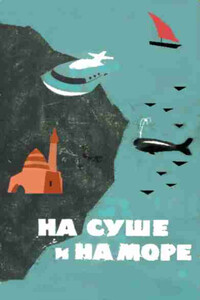36 Барт Р. Нулевая степень письма, с. 341.
37 "Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному девственному миру, одинокий Адам мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом о предмете. Конкретному историческому человеческому слову этого не дано..." (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики, с. 92).
[26]
писатель вынужден прибегать к такому слову, "оговоренность" которого как бы узаконена и кодифицирована тем социальным институтом, который представляет собой "литература": над системой языковых топосов литература надстраивает систему своей собственной топики - стилевой, сюжетной, композиционной, жанровой и т. п.; она сама есть не что иное как исторически подвижная совокупность "общих мест", из которых, словно из кирпичиков, писатель вынужден складывать здание своего произведения. Разумеется, эти "общие места" способны к филиациям и трансформациям, способны вступать в самые различные контакты друг с другом, образовывать зачастую непредсказуемые конфигурации, и все же любая из подобных конфигураций, даже самая оригинальная, впервые найденная данным автором, не только представляет собой индивидуализированный набор готовых элементов, но и, что самое главное, немедленно превращается в своеобразный литературный узус, стремящийся подчинить себе даже своего создателя (не говоря уже о его "последователях" и "подражателях") 38.
Именно потому, что "топосы" и "узусы" заданы писателю и к тому же отягощены множеством "чужих" социально-исторических смыслов, Барт - на первый взгляд, парадоксальным образом - называет литературу "языком других" - языком, от которого писатель не в силах ни скрыться, ни уклониться, ибо он добровольно избрал его средством "самовыражения". Являясь "языком других", литература одновременно оказывается и точкой пересечения различных видов социального "письма", и одним из его типов. Подобно тому как в обыденной коммуникации индивид лишь "изображает" на языковой сцене свою субъективность, так и писатель обречен на то, чтобы "разыгрывать" на литературной сцене свое мировидение в декорациях, костюмах, сюжетах и амплуа, предложенных ему социальным установлением, называемым "литературным письмом".
38 "Да, сегодня я вполне могу избрать для себя то или иное письмо...притязнуть на новизну или, наоборот, заявить о своей приверженности к традиции; но все дело в том, что я неспособен оставаться свободным и дальше, ибо мало-помалу превращаюсь в пленника чужих или даже своих собственных слов" (Барт Р. Нулевая степень письма, с. 313).
[27]
Это "письмо", обращенное к писателю своей отчуждающей стороной, Барт назвал "языком-противником": "Язык-противник - это язык, перегруженный, загроможденный знаками, износившийся во множестве расхожих историй, ,,насквозь предсказуемый"; это мертвый язык, омертвевшее письмо, раз и навсегда разложенное по полочкам, это тот избыток языка, который изгоняет повествователя из собственного "я"...; короче, этот враждебный язык есть сама Литература, не только как социальный институт, но и как некое внутреннее принуждение, как тот заранее заданный ритм, которому в конечном счете подчиняются все случающиеся с нами ,,истории", ибо пережить нечто...значит тут же подыскать для собственного чувства готовое название" 39.
Проблема для Барта состоит в отыскании такой позиции, которая, отнюдь не понуждая писателя порвать с языковой деятельностью, с литературой, то есть не обрекая его на "молчание", тем не менее позволила бы ускользнуть из-под ига "массифицирующего" слова.
В начале 50-х гг., грезя о "совершенном адамовом мире, где язык будет свободен от отчуждения", Барт видел лишь утопический выход из положения, воплощенный в мечте об "однородном" обществе, в котором полное разрушение социальных перегородок приведет к уничтожению самого понятия "письмо", к радикальной "универсализации языка", когда слова вновь обретут первозданную "свежесть" и "станут наконец счастливы" 40
Через десять лет Барт смотрит на положение дел по-другому; отныне задачу он видит не в конструировании несбыточной "языковой утопии", а в реальном "овладении" языком "здесь и теперь": язык не может быть ни изменен в своей сущности, ни разрушен, как не может быть ни изменена, ни разрушена литература (опыт сюрреалистов показал, что, изгнанная в дверь, литература всегда является в окно); единственный способ освобождения - это "обмануть", "обойти с тыла" язык-против