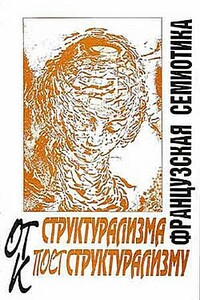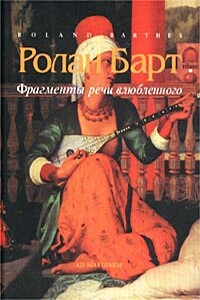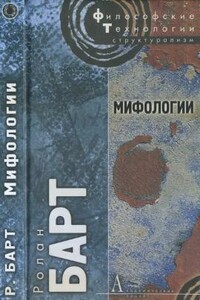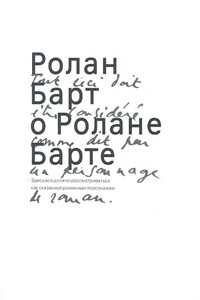Как мы видим, нынешняя французская критика носит характер одновременно "национальный" (она ничем или почти ничем не обязана критике англосаксонской, учениям Шпитцера или Кроче) и "современный", или если угодно "еретический". Всецело располагаясь в нынешнем идеологическом контексте, она ощущает себя мало причастной к традициям критики Сент-Бева, Тэна или Лансона. Впрочем, учение последнего представляет для сегодняшней критики специфическую проблему. Своими трудами, методом, самим своим духом Лансон, этот образец французского профессора, вот уже лет пятьдесят задает тон во всей университетской критике через посредство своих бесчисленных эпигонов. Может показаться, что поскольку принципы этой критики (по крайней мере, декларируемые) заключаются в строгом и объективном установлении фактов, то лансонизм и всевозможные течения идеологической, интерпретативной критики ничем друг другу и не мешают. Однако же, хотя современные французские критики в большинстве своем сами работают преподавателями (здесь речь идет только о критике профессиональной, а не любительской),
270
между интерпретативной и позитивистской (университетской) критикой существует тем не менее известная напряженность. Дело в том, что фактически лансонизм тоже является идеологией: он не просто требует соблюдать объективные правила, принятые в любых научных исследованиях, но и включает в себя некоторые общие воззрения на человека, историю, литературу, отношения автора и произведения. Так, с совершенно определенной эпохой связана лансоновская психология, являющая собой своего рода аналогический детерминизм, согласно которому детали произведения должны быть подобны деталям чьей-то жизни, душа персонажа - душе автора и т. д.; все это специфическая идеология, так как психоанализ, например, с тех пор представил себе отношения между произведением и автором прямо противоположным образом - как взаимоотрицание. На деле, конечно, обойтись без философских предпосылок вообще нельзя; и учение Лансона можно упрекнуть не в том, что оно совершает определенный выбор, а в том, что оно его замалчивает, скрывая под моралистическими покровами строгости и объективности. Идеология здесь, как контрабандный товар, прячется в багаже позитивной научности.
Поскольку все эти различные идеологические принципы оказываются возможными одновременно (и сам я до какой-то степени солидаризируюсь одновременно с ними всеми), то, видимо, идеологический выбор не составляет существа критики и оправдание свое она находит не в "истине". Критика - это нечто иное, нежели вынесение верных суждений во имя "истинных" принципов. Отсюда следует, что худшее из прегрешений критики - не идеологичность, а ее замалчивание; это преступное умолчание называется "спокойной совестью" (bonne conscience) или же самообманом. Как, в самом деле, поверить, будто литературное произведение есть объект, лежащий вне психики и истории человека, его вопрошающего, будто критик обладает по отношению к нему как бы экстерриториальностью? Каким чудесным образом постулируемая большинством критиков глубинная связь между изучаемым произведением и его автором утрачивает силу применительно к их собствен
271
ному творчеству и к их собственному времени? Получается, что законы творчества для сочинителя писаны, а для критика нет? В рассуждениях всякой критики непременно подразумевается и суждение о себе самой (пусть даже в сколь угодно иносказательной и стыдливой форме), критика произведения всегда является и самокритикой; по выражению Клоделя, познание (connaissance) другого происходит в со-рождении (co-naissance) на свет вместе с ним. Это можно еще раз переформулировать так: критика - не таблица результатов и не совокупность оценок, по своей сути она есть деятельность, то есть последовательность мыслительных актов, глубоко укорененных в историческом и субъективном (что одно и то же) существовании человека, который их осуществляет, принимает на себя. Разве деятельность может быть "истинной"? Она подчиняется совсем иным требованиям.
Какими бы извилистыми ни были пути литературной теории, в ней всегда признается, что романист или поэт говорит о вещах и явлениях (в том числе и вымышленных), существующих до и вне языка: мир существует, писатель пишет вот что такое литература. У критики же предмет совсем иной - не "мир", а слово, слово другого; критика - это слово о слове, это вторичный язык, или метаязык (как выражаются логики), который накладывается на язык первичный (язык-объект). В своей деятельности критика должна, следовательно, учитывать два рода отношений - отношение языка критика к языку изучаемого автора и отношение этого языка-объекта к миру. Определяющим для критики и является взаимное "трение" этих двух языков, чем она, по-видимому, в немалой степени сближается с другой формой умственной деятельности-логикой, которая также всецело зиждется на различении языка-объекта и метаязыка.