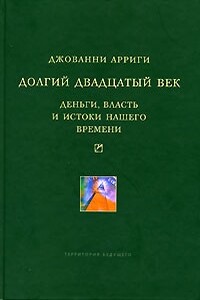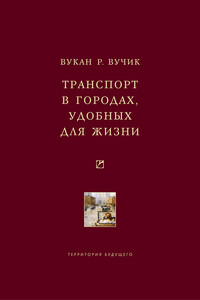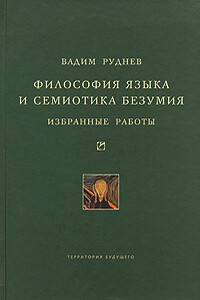Избранные работы - страница 43
§ 28. Нравственность индивидуума и нравственность в жизни общества
Из представленных условий конкретной нравственности следует, что в целях какого бы то ни было вообще человеческого блага человек является, с одной стороны, наиболее важным из всех средств, так как лишь он один не только распоряжается известными физическими силами (Tribekräfte) в интересах осуществления какой-нибудь нравственной или в ненравственной цели, но имеет также волю, которая в состоянии направлять эти силы и, таким образом, подчинять их заранее поставленной цели; с другой же стороны, – что именно поэтому все сводится к свободному самоопределению индивидуума, руководимого идеей нравственного как цели самой по себе, к которой в области нашего опыта опять-таки способен только человек. Но каждая из этих способностей человека развивается и получает известную форму только в человеческом общении и через него. Самосознание человека вообще развивается лишь через противоставление чужому сознанию и в то же время через положительное отношение его к сознанию других людей. Самосознание это первоначально имеет в равной мере и практический и теоретический характер; на нем одинаково основывается как общение в области хотения, так и общение в познании. Распространяясь на формальную сторону воли, именно: на отношение отдельных решений воли к идее безусловно всеобщего закона, это общение впервые фактически обосновывает также и нравственную свободу индивидуума. Но даже и цель нравственной воли заключается в конце концов не в изолированном индивидууме, а в общении (Кантовское «царство целей»), в котором, однако, индивидуум не уничтожается, а, напротив, в нем только и может вообще существовать как нравственный индивидуум. Отсюда получается двоякое значение нравственности: с одной стороны – индивидуальное, с другой – социальное. Индивидуальная этика должна постольку занимать первое место, поскольку основные отношения нравственного, принципиально тождественные для индивидуума и общества, несравненно легче могут быть показаны на индивидууме и уже потом по аналогии перенесены на общество, чем наоборот. В обоих указанных направлениях задача конкретной этики состоит в том, чтобы ближе определить идею нравственного как в отношении к трем ступеням активности, так и в связи с только что выясненным отношением между индивидуумом и обществом. Таким именно путем Платон достиг своей системы основных (или кардинальных) индивидуальных добродетелей и соответствующих им добродетелей социальной жизни. К этому изложению системы конкретной этики, преимущественно в целях объяснения развития человеческого общения, должна превзойти, однако, в качестве «регулятивного принципа» также уже получившая теперь более определенную форму идея нравственного, что Платоном совсем не было сделано и что Кант только наметил в основной мысли, но не провел до конца.
§ 29. Система индивидуальных добродетелей
Непосредственно из верховного принципа нравственности вытекает добродетель правды. В качестве добродетели, основанной непосредственно на образе мыслей или практическом сознании, правда выражает в человеке господство разума, обращающего в безусловную заповедь для человека согласование его воли с самой собой соответственно собственному, последнему закону разума. Она может быть также названа совестью в высшем значении чистого нравственного самосознания. При этом, однако, она простирается не только на нравственное самоопределение, но на каждый вообще человеческий поступок, поскольку он должен быть подчинен высшему господству разума или правды. Внешняя правдивость есть лишь многообразно обусловленное следствие и показатель этой внутренней чистоты, а не ее причина; сама же эта внутренняя чистота в своей безусловной ценности не может быть объяснена посредством какого-либо прямого или косвенного отношения к другим людям, равно как и через отношение к только мыслимому внешнему критику. Добродетель эта обнаруживается во всяком отношении к делу: в непреклонном стремлении исследователя к истине, в серьезном отношении к творчеству в области искусства, в честности при выполнении какой бы то ни было работы, везде требуя – в качестве положительной добродетели дела – уважения к закону, подчиняющему себе предмет, над которым работают; наконец, во всех общественных отношениях она проявляется как открытая правдивость любви, чистота всех отношений к другим людям, честность и чистосердечие в поступках и во всем образе жизни.