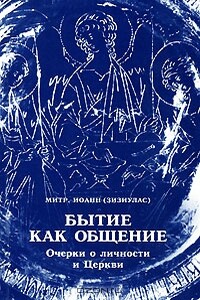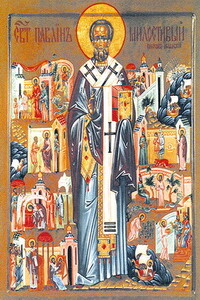ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Выступление в Баламандском монастыре (Ливан, Антиохийский Патриархат) 4 декабря 1999 г.
Конец XX столетия и приближение нового тысячелетия — события, которые относятся к нашему условному пониманию времени, а поэтому не имеют фундаментального значения для нас, христиан. Тот факт, что по этому поводу по всему миру проходят разного рода торжества, не должен вводить нас в заблуждение относительно какой–то особой важности смены календарных сроков. Для нас значимые изменения во времени связаны только с великими событиями истории спасения, которые мы литургически переживаем в дни церковных праздников. И все же, даже такие условные смены времен должны побуждать христиан к спокойному размышлению. И не только каждый из нас лично, но и Церковь в целом должна использовать этот повод для размышления и даже для самоиспытания и самокритики…
Какой мир мы унаследуем от XX столетия и от завершающегося тысячелетия? С какими проблемами и возможностями мы столкнемся впереди? Каково может быть свидетельство Православной Церкви в контексте того будущего, которое открывается в новом тысячелетии?
Христианская история: причина радости и разочарования
Если мы посмотрим на две тысячи лет христианской истории, нас охватит одновременно и радость, и разочарование. Причины удовлетворения и радости следующие.
Прежде всего тот факт, что Церковь выжила, никоим образом не может быть воспринят, как нечто само собой разумеющееся. Церковь родилась во враждебном мире и испытала тяжелейшие гонения, не только в первом веке, но и в наше время. И несмотря на это, она существует до сих пор. Слова апостола Павла: «мы умираем, и вот, мы живы», — вполне применимы к истории Церкви, по крайней мере до сего дня. Как это можно объяснить? Может быть, счастливой случайностью или историческими обстоятельствами, как сказал бы рационалист. Но для нас, верующих, ответ заключается в словах Господа, что «врата ада не одолеют» Церковь. Как бы то ни было, мы можем только благодарить Бога за то, что Он хранил Церковь на протяжении столетий.
Другим великим чудом является то, что сохранились основные традиции и структуры Церкви, несмотря на многочисленные влияния, которые она испытала со стороны разных культурных контекстов. Церковь живет в мире, но она не от мира сего. Границу между Церковью и миром провести очень трудно. И это всегда будет важнейшей проблемой для Церкви: как сохранить свою идентичность, в то же время не устраняясь от мира, не превращаясь в гетто.
Более того, везде, где Церковь существовала, она оказывала влияние на культуру. Это касается не только Византии или Средних веков на Западе, то есть тех случаев, когда мы можем говорить о христианской культуре. Это относится даже к периоду Нового времени, когда Церковь на Западе была откровенно и акцентированно отставлена в сторону как фактор, чуждый и лишний в деле создания гуманистической культуры. Многие гуманистические и моральные ценности современного общества суть не что иное, как христианские принципы морального поведения. Церковь не была настолько чужда человеческой жизни, как того хотели бы некоторые люди.
У Православной Церкви есть много причин для того, чтобы благодарить Бога. Мы никогда не были политически могущественными, разве что в Византии и в некоторых современных государствах, где православные составляли большинство. Но даже тогда мы сознательно развивали такие институты, как монашество, для того, чтобы напоминать самим себе, что Церковь не принадлежит этому миру. И вообще в истории Православия было гораздо больше периодов страдания и унижения, чем славы и обладания светской властью. Если наша Церковь может хвалиться, то прежде всего своими мучениками и подвижниками, а не мирской силой. И мы только можем благодарить за это Бога. Ибо, как говорит Павел, «сила Божия в немощи совершается».
Православная Церковь в XX веке в особенности должна быть благодарна Господу за то, что православное богословие заново открыло свои святоотеческие корни, осознало значение lex orandi (закона молитвы), прежде всего Святой Евхаристии, а также возродило дух Отцов Пустыни, благодаря впечатляющему возрождению монашеской традиции. Все это стало достоянием многих в контексте экуменического движения, где, несмотря на довольно слабое участие самих православных, свидетельство Православия было очень сильным.