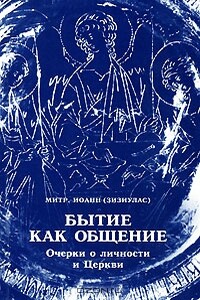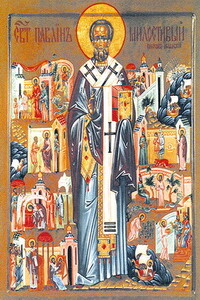Избранные работы - страница 20
Теперь, говоря о едином Боге (или с единым Богом) — Отцом — и Святая Троица не порождает противоречие, потому что Отец означает отдельную ипостась, которая является «другой» и в то же время — соотнесенной, то есть, невообразимой вне единства с «другими» божественными лицами. Единый Бог и триединый Бог, таким образом, задуманы одновременно, благодаря не безличной соотнесенности или «Триединству», а ипостаси, которая является и отдельной, и соотнесенной. [126] Отличие Отца и его инаковость не умаляются и не отрицаются, но, напротив, подтверждается особенность и целостность «Иных», поскольку он — их свободный и любящий создатель от которого «проистекают равенство и бытие равных». [127]
4. Причинность и порядок
Рассмотрим другое возражение или опасение, проистекающее от каппадокийского учения об Отце как «причины» Святой Троицы. Считается, что это учение влечет за собой опасность проецирования на Бога субординационистского видения, которое несет «привкус космологического богословия» [128]. В ответ можно сказать:
Существует определенный порядок или τάξις в Троице, ибо Отец всегда находится на первом месте, на втором — Сын, а третьим является Дух во всех библейских и святоотеческих упоминаниях Святой Троицы. Это имеет важнейшее значение, потому что мы не можем полностью изменить или опровергнуть этот порядок и поместить другое лицо перед Отцом. Григорий Назианзин явно говорит о порядке (τάξις) в предвечной Троице: «союз (ένωσις) является Отцом, от которого и в котором порядок (τάξις) лиц управляет своим устройством». [129] Сориентировать этот порядок только на Троицу истории спасения и сотериологию, как сделал это Вл. Лосский и другие [130], кажется, было бы насилием на патристическими текстами, такими как вышеупомянутый, которые обращаются к нераздельной Троице. Кроме того, контекст ясно указывает, что не следует слишком сильно отделять спасительную Троицу от вечного бытия Бога. Например, сыновнее «Да» Сына Отцу, с которым мы сталкиваемся в Гефсиманском саду и в другом месте, может иметь смысл только онтологически, если он указывает на предвечные сыновние отношения между этими двумя лицами. Именно эти вечные сыновние отношения представляют тот факт, что человечество Христа, или скорее Христос в своем человечестве, никогда не грешил, т. е., не противоречил желанию Отца, хотя он испытывал искушение и в пустыне, и в Гефсимании. Можно зайти слишком далеко и спроецировать послушание Иисуса на вечное послушание Сына Отцу [131], но, я, конечно, согласился бы с Гантоном [132] в наблюдении, что фоном послушания Иисуса Отцу находится вечный ответ Сына на любовь Отца. Каждое движение в Боге ad extra, так же как ad intra, начинается с Отца и заканчивается в Нем, словами Григория Назианзина, приведенными выше. Это устанавливает порядок и в спасающей, и в предвечной Троице. [133]
Нет необходимости добавлять, что такой порядок в предвечной Троице не должен ограничиваться временными, моральными или функциональными рамками. Фраза «Отец Мой более Меня» (Ин 14, 28), не подразумевает иерархии ценности или важности, поскольку такое значение было бы антропоморфическим и бессмысленным вне тварного бытия. И это не угрожает, как представляется некоторым богословам, цельности и равенству каждого божественного лица. Я уже показал выше, как приложение каппадокийцами концепции причинности исключительно к уровню личностности не только не подвергает опасности, но фактически гарантирует равенство этих трех лиц внутри божества. Это происходит только, если божественная природа так или иначе отождествляется с лицом Отца, а личная причинная обусловленность с процессом передачи божественной природы Отцом другим двум лицам, поэтому равенство троичных лиц как полностью божественных не подвергается опасности. Василий вопрошал: «Почему говорят, если Дух является третьим в чине (τάξει), то ему не следовало быть также третьим по природе? Аналогично, Сын является вторым по Отцу в чине, потому что он происходит из него, но не вторым по природе, поскольку божество одно в каждом из них, так и в Духе»