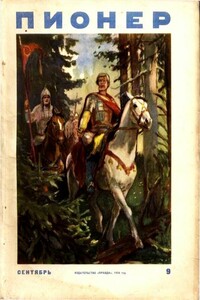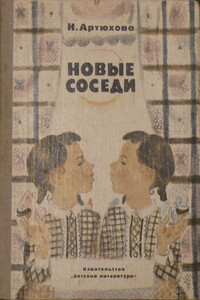Дело дошло до того, что однажды, по специальной просьбе майора, все фигуры высшего пилотажа были продемонстрированы ему в спокойной домашней обстановке.
II
Папа опять уезжал надолго. Мама и дочка провожали его.
На этот раз папино лицо было совсем не такое смелое и твердое, как у летчика на плакате. Если бы летчики могли бояться, можно было бы даже подумать, что папе страшно уезжать.
Он опять и опять начинал прощаться, держал мамины руки и повторял в десятый раз:
— Так ты не задерживайся! Пожалуйста… Ну, обещай мне!.. Бросай все — и уезжайте!.. Ну, обещай мне!..
Подошел попрощаться майор Сорокин, сказал папе, что пора, и заторопился идти, чтобы не мешать им поцеловаться в последний раз.
Возвращались в город на машине майора, но шофер был другой, незнакомый.
Когда доехали до поворота шоссе, над головой раздался грозный гул.
Самолеты летели в ту сторону, где над лесом садилось большое красное солнце. И вдруг один самолет чуть-чуть отделился от других и покачал крыльями. Мама встала во весь рост и замахала платком.
Самолеты летели очень быстро и скоро стали совсем маленькими, черные на золотом вечернем небе.
Наконец и маленьких было уже не видно.
Мама села опять, но не спрятала платок в сумочку, а закрыла им лицо.
…Ребята слышали много новых, прежде незнакомых, да и теперь еще не совсем понятных слов.
Короткое и грозное слово: фронт. Громкое и беспокойное: тревога. Шелестящее слово: убежище, — как будто все ходят, шаркая ногами в темноте, и говорят шепотом. Веселое слово: от-бой! — как будто стукнули два раза по столу деревянным молоточком.
И самое главное слово, широкое, ледяным ветром дующее в лицо: война.
Все папы, даже невоенные, надевали военную форму и уезжали на фронт, на войну.
А потом стали уезжать и мамы с ребятишками, с бабушками, все маленькие и большие семейства.
Мамы укладывали чемоданы и вязали узлы. Они старались уложить как можно больше вещей и в то же время хотели, чтобы вещей было как можно меньше.
Они знали, что могут взять только самое необходимое, но когда подходили к ним ребята и клали рядом с чемоданом медвежонка, или куклу, или тяжелую стопку школьных учебников, мамы безропотно укладывали и то, и другое, и третье. Потому что, если человеку четыре года, какая же ему жизнь без куклы? А если ему десять лет, может быть, он станет ходить в школу в том далеком спокойном месте, куда они наконец приедут и где ребята ночью спят, а днем будут учиться.
Мамы укладывали вещи, а ребята играли, потому что ребята не могут не играть.
— Давай играть в войну, — говорил какой-нибудь карапуз своей младшей сестренке. — Вот летит самолет сбрасывать бомбы!
А сестренка отвечала деловито:
— Погоди, погоди! Я еще мирное население не приготовила!
III
В этом поезде почти не было молодых мужчин. Ехали женщины, маленькие дети, старики и подростки.
А вещи были тяжелые, так трудно было поднимать их к высоким дверям товарных вагонов. В дверях сейчас же образовывался затор.
Одни помогали друг другу, тянули за руки сверху, подсаживали снизу, передавали конвейером чужих ребят и чужих бабушек.
Другие ворчали и ссорились, отталкивали чужих бабушек и чужих ребят, признавали только своих.
Это было естественно: человек может ехать совсем один и даже без вещей, но характер свой никогда нельзя оставить дома.
Поэтому, когда поезд отошел, одни долго еще покорно сидели на высоком и неудобном чемоданном торчке, боясь пошевельнуться, чтобы не наступить соседу на руки или на голову. А другие, в первые же минуты бесцеремонно раздвинув соседей, устроили себе комфортабельные спальные места, уже распаковывали мешочки с провизией и жевали что-то.
Одна совсем молоденькая мама бодро втиснула свои вещи в вагон, помогала другим, никого не толкала и очень удобно устроила свою дочурку, не слишком далеко и не слишком близко от двери. Дочка заснула, а мама положила на чемодан лист почтовой бумаги и стала писать письмо. Писала она карандашом, вагон покачивало, иногда вздрагивала рука, но все-таки почерк был разборчивый, твердый и красивый.
«Не беспокойся о нас, мой дорогой, мы благополучно выехали, пишу тебе в поезде, скоро будем в Москве.