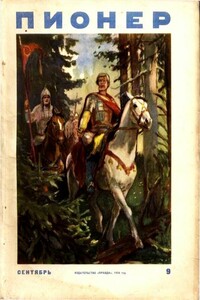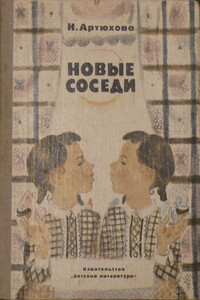Белые лебеди, кровать с полосатым матрацем да ухваты около печки — это остатки мирной жизни. Все остальное военное.
Автомат на стене. На столе — полевая сумка и развернутая карта. Над картой склонился капитан с черными усами. Огонек колеблется, коптит, по стенам блуждают беспокойные тени.
Из-за перегородки то и дело слышится хриплый, простуженный голос:
— Связь! Связь!
Шаги и стук у двери:
— Товарищ капитан, разрешите доложить: тут парнишка пришел и какого-нибудь начальника спрашивает.
От двери с каким-то стеклянным звоном шагнула маленькая белая фигурка.
Валенки, рукава и полушубок спереди, до самой груди, были гладкие, твердые, ледяные. Плечи и шапка мягкие, пушистые от снега. Мальчик поднял на капитана яркие синие глаза и проговорил, тяжело дыша, останавливаясь после каждого слова:
— Майор… Курагин… тяжело ранен. В сарае. Около Дубровки…
Он огляделся и хотел подойти к печке, но поскользнулся и упал на пол с тем же ледяным стеклянным звоном.
Все подбежали к нему.
— Скорее снимите с него все это! — крикнул капитан.
Мальчик отстранил рукой красноармейцев.
— Я сначала скажу. — Он взял с пола уголек и провел им черту на полу: — Шоссе. Деревня. Лес. Колодец. Сарай — здесь.
Он поставил на полу черный крестик и потерял сознание.
XXII
Сережа сидел на лавке, поджав под себя ноги в больших валенках и завернув длинные рукава гимнастерки. Он был закутан в огромный мохнатый полушубок.
Перед ним стояла дымящаяся паром миска со щами.
Ему хотелось поскорее, как-нибудь помимо рта, вливать в самую свою середку горячую жидкость.
Холод выходил из его тела постепенно, толчками.
Сначала стало тепло внутри, холод и боль от него отступали, сгущаясь, к рукам и ногам.
Когда они остались, наконец, только в самых кончиках пальцев, это было так больно, что хотелось кричать.
И вдруг Сережа почувствовал себя свободным от этой боли.
Пальцы горели, двигались, как живые, можно было не думать, забыть о них.
Боец вынимал ухватом из печки Сережины валенки и осматривал, боясь припалить.
— Все равно не высохнут, товарищ лейтенант.
— Ничего, поедет в этом. А все-таки посуше немножко… Заверни вместе с его вещами. — Лейтенант с румяными щеками и вздернутым мальчишеским носом повернулся к Сереже: — Ты скажи спасибо, что мороз еще не силен, без ног остался бы.
Потом начинал расспрашивать в десятый раз:
Так ты говоришь, тяжело?
— Да, думаю, что очень.
Лейтенант старался утешить себя:
— Здоровый он, может, и обойдется. У нас врач хороший. Сейчас же переливание крови и все такое.
Сережа с благодарностью смотрел на лейтенанта: так хотелось верить, что все обойдется.
— Ведь мы его, Сережа, убитым считали… Вечером сообщили из батальона, что он, раненный, на перевязку поехал, а перевязочный пункт разбомбило… Ординарец и автоматчик, что с ним вместе были, убиты, а майора, сказали, даже тела не нашли, только рукавицу его около воронки — и кровь на ней…
— Товарищ лейтенант, а меня возьмут?
— Как же не возьмут, когда я сам туда еду? Уж я-то тебя не оставлю. Что же ты? Ешь!
— Спасибо, не могу больше.
Лейтенант положил перед ним несколько кусков сахара.
— Не надо, спасибо.
— Как так не надо? Я тебе еще сюда в узел завернул — для сестренки. Ведь вы теперь ниоткуда не получаете? Мыло у вас есть дома?
— Есть.
— Жаль! Я бы тебе дал.
Он наспех пошарил на полке.
— Консервы еще положу. Очень вкусные… Увози ты, Сережа, свою сестренку в город! Ты думаешь, немцы до города дойдут? Ни за что не дойдут. Мы их дальше не пустим. Мы тут укрепились хорошо. В Москву их не пустили, и мы не пустим. Да еще зима начинается. Ты готов?
Он прислушался.
— Это за нами, кажется. Поехали.
Вошел капитан, отряхнул снег с рукавов и шапки. Подозвал к себе лейтенанта и тихо сказал ему:
— Вы там не задерживайтесь: им дан приказ отходить на Бельково.
XXIII
Бледное, желтовато-серое небо. Желтовато-серый утренний снег… Носилки… Бледное лицо, почти такого же цвета, как снег и зимнее небо.
Лейтенант, не стесняясь нисколько, размазывает варежкой слезы на румяных щеках. Любочка крепко держит Сережу за руку: ей страшно, что он уйдет куда-нибудь опять.
— Он все говорил, говорил… Очень много рассказывал. А потом заснул и все молчит… Он спит, Сережа?