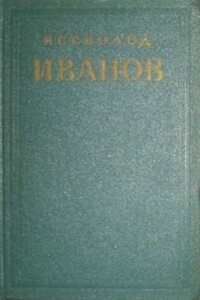I
Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые, — низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным тротуарам. Люди в узких деревянных щелях домов; оттуда и слышен шепот:
— Через Сусловицу перешли…
— Сначала коммуну бить… начнут…
— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай…
— Какие масштабы?
— Господи, а мы-то при чем?..
В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды; когда солнце в маслянистой крови — как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.
Кузница была под горой — «на подоле»; ниже — город; выше, на горе, — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?
Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа. Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:
— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают…
— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.
Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.
— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету. Ты картошку не проследи, уплывет… Белые, поди, сегодня придут, надо б домой идти. Пущай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.
— А за ноги вешают? У которых шея, поди, тонкая, не выдержит, дяденька?
— Проси — повесят за ноги.
— А на том свете в рай попадем?
Василий оттянул котелок, щепочкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.
— А на этом свете в рай хочешь?
— Хочу.
— Давай табаку, дорогу расскажу.
Ерошка выпустил ремень меха и сказал медленно:
— Я некурящий.
Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько:
— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.
— Ишь!
— Большевики в бога не верют… Кипит!..
— Кипит. Доставай.
В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.
— Бонба, — сказал боязливо Ерошка.
— Ешь, пока картофель горяча.
А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:
— Темно, дяденька.
Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь; по дороге неустанно шел ветер. У станка для ковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка… Кузнецу стало холодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерошка:
— Дяденька, темно… Пойдем в город… тут крысы…
Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились.
Запах угля отяжелел.
Здесь, от станка для ковки, глухо и медленно позвал голос:
— Хозяин!
II
Ерошка для чего-то задергал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загривок и хрипло крикнул:
— Чего ты-ы?..