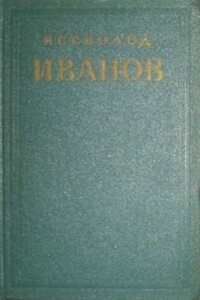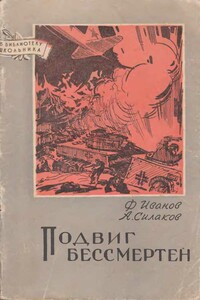Река казалась иссиня-черной, а мелкий песок — желтым.
— От солнца, — сказал Кубдя.
В речных тихих затонах, в опоясках камыша, было много дичи. Они стреляли. Кубдя всегда в лет, а потом Беспалых снимал штаны и лез в воду. Лопушники хватали его за ноги, он фыркал и кричал Кубде:
— Егорка! Утону!
Кубдя, грязный, весь в пуху, сиял на берегу своим корявым лицом, отвечая:
— Ничиво. Монастырь близко: сорокоуст закажем.
Если утка была не добита, Беспалых перекусывал ей горло и говорил:
— Обдери душеньку свою.
Уже отошли далеко от монастыря. Виднелись белки с синими жилками речушек.
— Пойдем назад, — сказал запыхавшийся Беспалых. — Куда нам их бить, обожраться, что ли…
Кубдя лез через камыш, чавкая сапогами в грязи, и неторопливо покрикивал:
— Еще, Ваньша, немного еще…
Беспалых плюнул и сел на корягу.
— Не пойду, — сказал он.
Кубдя пошел один. Скоро где-то в камышах грохнул выстрел. Беспалых хотел пойти, но удержался. «Ну его к черту, — подумал он, — с ним не выйдешь».
— Егорка-а!..
— Ну-у?..
— Сюда иди-и, ха-ле-ра-а!..
Беспалых не откликнулся. Он хотел закурить, но вспомнил про сетку и выругался. Тогда он стал думать, нужно ему жениться или еще рано. Уже двадцать четыре года, а парень не женат.
«Пора уже», — решил он.
На елани трава была подмышки, и Беспалого не было видно на коряжине, он решил отдохнуть и отправиться один. Беспалых прислонился головой к дереву, под голову положил утку, ружье в ноги и закрыл глаза.
Разбудил его Кубдя. Он стоял перед ним и, дергая его за рукав, улыбался:
— Буде, выспался, пойдем на престол.
V
Кубдя был доволен и охотой, и разыгравшимся теплым днем, и ломотой в пояснице с устатка. Шагая мимо сырых стволов осин, он посвистывал и, смеясь, оглядывался на вяло тащившегося сзади Беспалых.
Беспалых, как и всегда после сна на солнце днем, распарило, и во рту его неприятно сластило.
— Айда домой, — сказал он, перебрасывая уток с руки на руку.
— Нельзя, надо бога вести как следует: осмеет народ.
Они, как и все сибиряки, редко заглядывали в церковь, но не попьянствовать во время праздника считали грехом.
С утра густо дымились трубы: жирным черным пятном полз дым в небо. Сразу было видно, что пекут блины и шаньги. На скамейках у ворот сидели мужики и, покуривая, говорили о хозяйстве.
На них были новые, пахнущие краской ситцевые рубахи, — не измятые еще, рубахи топорщились колом, и похоже, что одели мужиков в бересту.
Парни ходили в ряд под гармошку по деревне.
Испорченная гармошка врала. Они же молча изгибались из стороны в сторону, лица у всех были серьезные, и не верилось, что идут пьяные люди, далеко пахнущие самогонкой.
За парнями, тоже в ряд, как утята за маткой, шли девки в ярких кашемировых платьях и проголосно пели:
Я иду-иду болотинкой,
Машу-машу рукой, —
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой.
Кубдя и Беспалых бросили уток к учителю в сени.
Хотели снять ружья, но Беспалых сказал:
— Возьмем для близиру: хоть штаны рваны, а берданку имеем.
Умылись, повесили ружья за плечи; Беспалых переобул для чего-то сапоги, потом вышли на улицу, поздоровались с парнями и пошли в ряд, под гармошку.
Гармонист шел в середине и, втянув губы в рот, так нес гармошку и с таким видом играл, словно научился и приобрел впервые ее. Солнце отсвечивало на жестянках клавишей, на кругленьких колокольчиках гармошки.
Под ногами гнулась молодая трава, из палисадников пахло черемухой, а на маленькой церковке торопливо, под «камаринского», трезвонили:
«Ту-лю-лю-ли-бо-ом!.. Бом!.. Бэм-м…»
Когда так молчаливо и с удовольствием прошли две улицы, гармонист предложил:
— Айдате к Антошке?
Пискливый голосок из ряда сказал:
— Айдате.
Парни свернули к Антошке Селезневу.
Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, встретил их у ворот. На нем был синий пиджак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. Окладистой русой бородой, гладко причесанными, в скобу, волосами он тряхнул так самодовольно, что все ласково улыбнулись.
Он считался в селе всех богаче, и его всегда выбирали в церковные старосты, — поэтому-то он сегодня и угощал всех.
Селезнев провел парней к крыльцу, зашел в сени, постучал чем-то деревянным и проговорил: