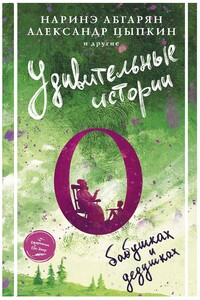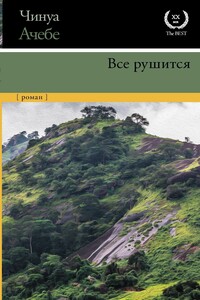— Жан-Альфред Мунденга, сержант легкой артиллерии, французская бригада, Дамаск, генерал Лежантийом.
— Амундале Зогбекве, старший сержант, второй пехотный батальон, первая сводная отдельная бригада, Бир-Хакейм, подполковник де Ру.
Зеваки восхищались этой шумной перекличкой и всем этим церемониалом, приоткрывающим завесу над военными тайнами, совсем еще недавно недоступными простым смертным; вокруг ветеранов собирались портовые грузчики, прерывавшие работу, несмотря на вопли десятников; ребятишки, сбежавшиеся из опустевших школ; проститутки, или, как их у нас называли, «адели», высматривающие легкую поживу Но по мере того, как военные воспоминания выветривались из голов участников и зрителей этого представления, окружавшая их поначалу торжественная и радостная атмосфера уступала место чувству недовольства, а потом и гнева. В рассказах ветеранов, сходивших на землю, звучали нотки разочарования, горечи и протеста. При демобилизации им не выдали обещанного денежного вознаграждения; впрочем, то же самое произошло и в начале службы, когда их не только лишили пособия, причитавшегося новобранцам, но еще и вычитали в течение всей войны последние гроши из их скудного солдатского жалованья, чтобы погасить несуществующую задолженность. Корабельное начальство наложило арест на те немногие вещи, которые им удалось купить на свои сбережения; некоторые из них женились в Европе, обзавелись детьми, но власти наотрез отказались выдать их семьям разрешение на выезд. Они не получили никаких официальных гарантий внеочередного устройства на работу, никому из них не было обеспечено место в мирной жизни, не могли они рассчитывать и на получение кредита, который позволил бы им встать на ноги, приобрести лишний клочок земли. Им было сказано: «По поводу всех этих льгот, которые вы бесспорно заслужили своей доблестной службой, вам следует обращаться к местным властям. Возвращайтесь в свои колонии и добивайтесь там всего этого сами». Напрасно ветераны возмущались: «Люди, к которым вы нас отсылаете, ничего общего с нами не имеют, никто или почти никто из них на фронте не был, а ведь мы с вами — братья по оружию, мы можем столковаться, найти общий язык, несмотря на то что вы — белые, а мы — черные». Но куда там! Их, как всегда, бессовестно одурачили.
Подобные речи буквально потрясали слушателей, у которых справедливость всех этих упреков не вызывала ни малейших сомнений. К тому же те из ветеранов, что вернулись в колонию раньше, а теперь пришли встречать своих товарищей в порт, могли подтвердить истинность их обвинений не только на словах: об этом говорили их расползавшиеся по швам мундиры, стоптанные башмаки, нечесаные шевелюры, их беспрестанные голодные зевки, их изможденные лица. Все это служило доказательством неблагодарности тех, кто бросил их в нужде на произвол судьбы, а вовсе не было свидетельством их пороков, выставляемых напоказ: лени, пьянства и тщеславия, — как утверждали иные злопыхатели.
Сначала они собирались в портовом баре, владелец которого, толстый марселец с напомаженными волосами, терпел их присутствие в заднем зале. Все они — и только что прибывшие бравые вояки в ладно сидящих мундирах, и их жалкие, опустившиеся предшественники — накачивались пивом под снисходительным взглядом хозяина, который нехотя, словно бы по указанию свыше, иногда обращался к ним с натянутой улыбкой, называл «ребятами», поздравлял с возвращением на родину, с долгожданным «дембилем». Такого рода запанибратские словечки были не очень-то уместны, но что поделаешь: уж лучше терпеть эту болтовню, чем сосать пиво прямо из горлышка на самом солнцепеке, под соболезнующими взорами гуляк, с вызывающим видом прислонившись к какой-нибудь балюстраде — благо колониальная архитектура изобиловала ими — или к ящику с товарами. Впрочем, в конце концов все они оказались именно там, ибо марселец выставил их из своего заведения, как только прибытие чернокожих солдат стало восприниматься как политическая демонстрация.
Им случалось обращаться с речами и к толпе зевак; те слушали их внимательно, одобрительно шумели.