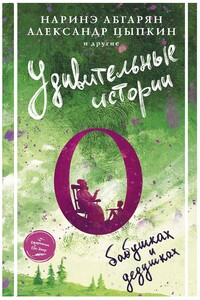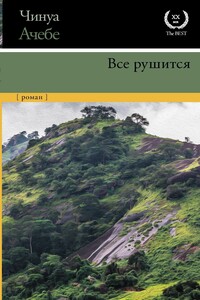Массивный довольно расхохотался и, все еще не спуская глаз со своего соперника, обеими руками обхватил телевизор. У Низенького был такой вид, будто он больше даже и не помышляет о сопротивлении, но, когда Массивный, любовно обняв телевизор, попятился к выходу, он нашарил на земле камень и с яростью отчаяния швырнул его в победителя.
Экран телевизора, едва успевший вспыхнуть в лучах солнца, мгновенно погас, — камень, вдребезги разбив полированное стекло, непоправимо размозжил медные кишочки телевизора.
Массивный остолбенело застыл, выпустил из рук телевизор, и наступившую было тишину взломал мучительный надрывный вопль. Бросив безутешный взгляд на свою искореженную, поверженную в прах мечту, страдающий победитель гигантскими скачками погнался за торжествующим врагом. Но тот, пронзительно визжа от истошного, хоть и счастливого ужаса, пустился наутек, легко оторвался от преследователя, выскочил на дорогу, увернулся от подъезжающей к студии машины Генерального директора — и был таков.
Асанте Смит вылез из машины, жестом показал шоферу, чтобы тот ехал на стоянку, подошел к обломкам телевизора, внимательно оглядел их и пристально посмотрел Баако в глаза.
— Что тут произошло? — спросил он.
— Не знаю, — покачав головой, ответил Баако.
— Кто учинил это безобразие?
— Вот ведь забавно, — стараясь сохранить спокойствие, сказал Баако, — я как раз сейчас задавал себе тот же самый вопрос.
Асанте Смит подозрительно покосился на Баако и, увидев проходящего по двору рабочего, крикнул:
— Эй, как тебя! Убери это безобразие!
Слушаюсь, сэр.
Асанте Смит поднялся в свой кабинет, а Баако вдруг необычайно отчетливо вспомнил ухмылку, с которой во время одного из предыдущих совещаний тот поглядел на него, когда он сказал, что хочет познакомиться поближе с образным мышлением и верованиями простых людей для обогащения своей творческой палитры.
Да, в общем-то директор был не таким уж дураком. Баако почувствовал, что по его телу разливается странная легкость. И одновременно ощутил непреодолимое желание выйти за ворота студии, свернуть на площади влево, потом, после Военного госпиталя, вправо, чтобы выбраться на Казарменную улицу, а заодно сбить прогулкой назойливо катящиеся в одном направлении горестные мысли. Дойдя до коттеджа Хуаны, он прилег на веранде, зажмурился, потому что косые лучи вечернего солнца били прямо в глаза, и стал ждать.
— Qué pasó?[8]
— Да ничего особенного. — Он вошел за ней в комнату, и она сделала коктейль ему и себе.
Он отхлебнул из своего бокала и спросил:
— Ты не разрешишь мне напечатать кое-что на твоей машинке?
— Боже мой, — сказала она, — что за официальность?
Она принесла машинку и стопку бумаги, но, испортив несколько листов, он встал из-за стола и проворчал:
— Ну и дерьмовое же у испанцев расположение букв!
— Что поделаешь, не всем ведь удалось попасть под владычество англосаксов. Давай уж я тебе напечатаю — если только это не десятитомная история Великого Имперского Наследия.
— Нет, тут немного, — сказал он.
— Ладно. — Она села за машинку и сменила лист. — Давай.
— Аккра, Канеши, — начал он, — улица Асафо, семь дробь три. Напечатала? Уважаемый господин Начальник отдела кадров, запятая. С новой строки: Я увольняюсь.
— Послушай, Баако, — сказала Хуана со смехом, — они там решат, что ты спятил.
— Пусть решат. С красной строки: Считайте, что предупреждение за месяц я сделал сегодня. С новой строки: Всегда ваш. С новой строки: Баако Онипа. Число.
— Господи, Баако, — воскликнула Хуана, — что все-таки случилось?
Языки пламени слизнули последнюю страницу и увяли, оставив на углях хрупкие, невесомые лепестки, серые там, где огонь окончательно потух, и багровые в тех местах, которые касались раскаленных углей.
— Почему вдруг стало так тихо? — спросила Наана.
— Мне больше нечего жечь, — ответил он.
— Ты так и не объяснил мне толком, что это такое.
— Я хотел, чтобы люди увидели мои мысленные видения.
— Того же обычно хотят и прорицатели.
Он невесело засмеялся и встал.
— Не уходи, — попросила Наана. — Посиди со мной… Тебе ведь тяжело, правда? Я никак не могу понять, почему ты скрываешь от меня свои дела.