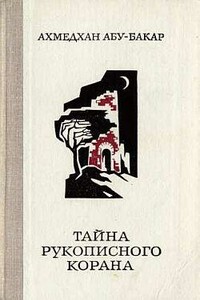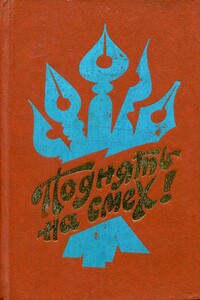Ашурали хорошо знал и помнил, что есть в Коране девяносто девятая сура — «землетрясение», которая гласит: «…Когда сотрясется земля своим сотрясением и обнаружит земля цену сокровищам и скажет человеку: «Что с нею, с землей?» И в этот день он расскажет о себе по внушению господа. В тот день толпами выйдут люди, чтоб им показаны были их деяния; кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его». Кто бы из пророков или шейхов ни писал эту суру, он, несомненно, был очевидцем подобного землетрясения, думал Ашурали.
Сотряслась земля, сила толчка достигла в эпицентре восьми баллов. Люди забыли обо всем незначительном в их жизни, о невзгодах и ссорах, о неполадках и дрязгах житейских, их прежние обиды показались им ничтожно мелкими в сравнении с этой бедой. Люди вспомнили о себе, люди вспомнили родственников, близких…
— Землетрясение!
Раскачиваются дома в Дубках, большие, многоэтажные дома. Перед глазами вздрагивают столбы, башенные краны, скрипят деревянные бараки. Из рабочих были срочно созданы аварийные группы, в которые вошли мужчины, все комсомольцы и коммунисты. Одну из них возглавил парторг колхоза Мустафа. В его группе до пятидесяти человек, она должна оказать помощь на стройке. Они готовы, и если беда вдруг разразится вновь, он поведет свою дружину. Думаете, пойдут?.. Пойдут, никто не дрогнет перед большой бедой. И все? Да, все. А так, в обычной жизни? Вот здесь уже обстоит сложнее. Нет абсолютно плохих или хороших людей, есть человек в совокупности присущих ему слабых и сильных сторон. Разве не бывает так, что инженер, ученый или художник как специалист талантлив, но как человек — никудышный, дрянной. Талантом, трудом своим завоевал признание, славу, а потом седлает он эту славу, как коня, и погоняет.
— А любит ли кого-нибудь такой человек?
— Угодников и подхалимов, которые подобострастно направляют ручейки лести на мельницу его славы.
— Неужели есть такие?
— Есть.
— Я бы не пошел с таким даже в лес орехи собирать.
— И он бы с тобой не пошел.
— Почему?
— Потому что орехи ему домой приносят на серебряном подносе с серебряными щипцами, чтобы, чего доброго, зубы не поломал.
…Стоят, сидят, лежат чиркейцы у могил своих предков. Трещат сакли, слышите, доносятся эти звуки, оседают крыши, вон стена отвалилась и с грохотом рухнула прямо в пропасть. Среди всех людей, собравшихся здесь, если и был кто внешне спокоен, так это Ашурали. Хотя, возможно, и его душа давно ушла в пятки, но он призывал всех к выдержке и самообладанию; он знает, что паника — это грозный поток, готовый прорвать плотину, слепой и безжалостный.
— Что вы охаете, ахаете? Эй, я к вам обращаюсь, носящие папахи! Чего дрожите, как хвост у ручной синицы, — тихо возмущался Ашурали, и к его голосу все молча прислушивались. — Подумаешь, большое дело! Землетрясение? Ну и что? Земля всегда трясется, только мы не замечали.
— Так никогда не бывало, почтенный Ашурали, — сказал Амирхан, все время шептавший молитвы, прислонясь к каменному надгробию.
— Нашли чего бояться. Ничего не случится, кроме того, что должно случиться. — Ашурали толкнул локтем Амирхана. — А ты знаешь, на чей памятник облокотился?
— На чей?
— На памятник моего деда.
— Потому, видно, ты и храбрый такой, — заметил Амирхан. — Был бы я у могил своих предков, небось набрался бы и я смелости.
— Набей-ка табаком мою трубку! — попросил Амирхана разговорившийся Ашурали.
— На кладбище не курят, — возразил тот.
— Это в обычные дни, а когда под тобой останки предков твоих не находят места — можно. Набей! — Он сунул в руки Амирхану трубку и обернулся на плачущие голоса женщин: — Эй, раскудахтались, хватит вам причитать, за детьми лучше присмотрите.
— Пожалуйста, Ашурали, твоя трубка. Зачем такая беда сейчас, а?
— Да у тебя, Амирхан, руки трясутся. Тебе-то чего терять?
— Дрожит ведь, — сказал Амирхан, поминутно оглядываясь.
— Чувствую. — Ашурали прикурил и, затянувшись сладким дымом, добавил задумчиво: — Землю под собой всегда надо чувствовать. Забыли о ней люди, зла стало много, вот она и напоминает о себе.
— Смотрите, смотрите, минарет качается…