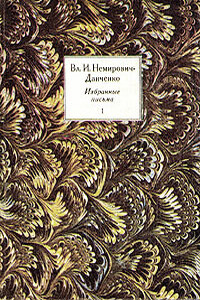Говорят, она со вкусом. Встретил там Кусевицкого с женой. Она говорит, что «Нибелунгов» в Grand Opйra эта же зала слушает, как священнодействие. Это Вагнера! С немецким дирижером!
Балет состоял из трех одноактных балетов.
1. «Петрушка» («Pйtrouchka»). Балаганы на Марсовом поле, очевидно, в конце 18‑го века. Балет остроумно составлен Бенуа (из 4‑х маленьких картин), художественно написан, с хорошей музыкой — немного лучше сладился, чем накануне.
Был покрыт отличным аплодисментом, и вызвали раза четыре довольно шумно.
2. «Пробуждение розы». Дуэт Карсавиной и Нижинского. Под Веберовское «Invitation au valse»[126].
Это было действительно очаровательно.
{72} Всего минут десять.
И имело громадный успех. Как у нас в Берлине[127].
Нижинский — юноша, всего три года из школы. Крупенский (так сказать, петербургский Румянцев) устроил так, что Теляковский его выгнал, — очень талантливый танцор, и кричат о нем по всему Парижу.
И, наконец, 3‑й — «Шехерезада», гвоздь дягилевской антрепризы. Тоже хорошо. Смело и драматично. Рисовал и ставил Бакст, довольно антипатичный господин.
Перед двумя балетами показывались под увертюры панно — Рериха и Серова.
Всему этому много аплодировали как мужчины, так и все дамы. Успех был несомненный, большой и легкий. Начали в 9 >1/>4, а кончили в 11 >1/>2, всего 2 >1/>4 часа.
Мы со Стаховичем смотрели на съезд, когда дамы показывали свои манто, и немного на разъезд.
Опять «ото» — в ресторан, где снова собрались все те же — Дягилев, Чайковский и т. д. И Нижинский и какой-то известный художник-карикатурист.
Элегантный, небольшой ресторан, куда приехали все оттуда. Но вот что мне понравилось. Приехали, немного закусили и домой. В 12 >1/>2 уже ресторан начал пустеть. И мы со Стаховичем, утомленные от разговоров, от внимания, а я еще — от напряженных соображений, что может выйти с нашими спектаклями, и от taxi’ов, — как пришли домой, так и повалились. Стахович еще только несколько раз входил со своими впечатлениями.
Я начинаю соглашаться с Константином Сергеевичем, что такой публике нам нечего показывать, кроме «Федора» и «Мокрого». А только эта публика и может платить.
Теперь мне предстоит все обдумать. Я еще ничего не могу решить. Надо, чтоб все данные осели.
На другой день (последний) я уже пил кофе дома, так как надо было уложиться, а в 12 должны прийти Duchamps[128] и Дягилев завтракать.
Пришли завтракать. Я продолжал допрашивать.
Вывел я такое заключение, что Париж денег не даст. Ехать стоит только с тем, чтоб из Парижа ехать в Лондон. Дягилев {73} уверяет, очень энергично, что нас в Лондоне знают и ждут. Не думаю, чтоб так, как в Париже. Тут почва для нас изумительно приготовлена. Я часто вспоминал, как 5 лет назад я стоял около театра Sarah Bernhardt, чувствуя себя одиноким, подавленным этим Вавилоном, этими снующими людьми, которым нет никакого дела ни до меня, ни до нашего театра, с тяжелыми соображениями, что из поездки ничего не выйдет, с вопросами, на какие средства мы будем продолжать дело и в Москве-то…
И теперь — полная перемена декорации: нас знают, нас ждут, нам готовы платить…
До завтрака было еще два интервьюера (русские). Принимали их в нашем салоне.
В 3 часа было назначено последнее свидание с Астрюком. Сначала со Стаховичем, потом он ушел укладываться, говоря, что я и без него могу отлично разговаривать («У тебя только нет смелости, а говоришь ты хорошо, и “прононс” у тебя отличный»).
От Астрюка я еще имел время пройти по Итальянскому бульвару и посмеяться, глядя, как весь этот народ мечется, «сумят, клицат»…
Ни разу ни в одном магазине не был! Не купил ни на полфранка ничего!
Я думаю, это замечательно.
Наконец, доуложились, выпили чаю и уехали…
Твой В.
266. Из письма Е. Н. Немирович-Данченко[129]
13 июня 1911 г. Карлсбад
Понедельник 13‑го
Карлсбад
… Труханова, Рубинштейн — это 3‑й сорт русских в Париже. При мне русские были представлены: в одном театре (у Дягилева) — Бенуа, Бакст, Серов, Рерих — как художники; Римский-Корсаков, Стравинский — как музыканты; Нижинский, Фокин, Карсавина — как танцовщики. Должна была участвовать и наша Федорова. В другом театре — Шаляпин