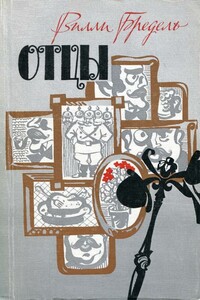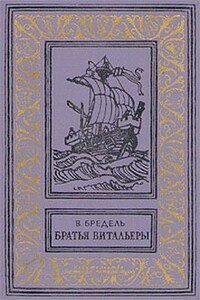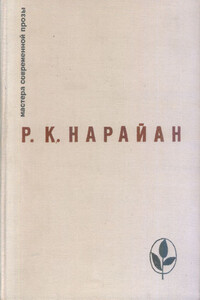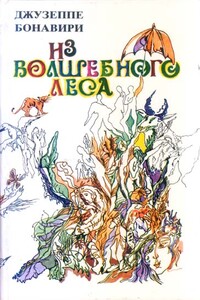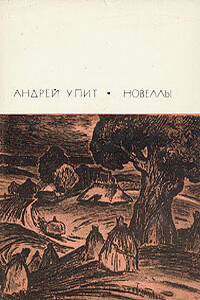Он никогда не был богобоязненным. Религию он считал суеверием. Вопреки воле своей семьи, строго соблюдавшей каноны веры, он женился на христианке. За тридцать лет нашей совместной жизни он ни разу не был в синагоге. Он был атеист, хотя и не презирал верующих. В те ноябрьские дни прошлого года в душе его произошел перелом. Этого нельзя было не заметить. Бродя по комнатам, он шептал молитвы.
Так повлияло на него все это. Однажды он сказал: «Матильда, созови детей. Нужно посоветоваться». Вечером мы все собрались. Чтобы не нарушать старую семейную традицию, я испекла яблочный пирог. Мы поужинали все вместе, как часто бывало в прежние времена, когда собирались на семейный совет. Однако на этот раз все сидели молча и мрачно ковыряли вилкой в тарелке.
На коленях у Зигфрида сидел его любимец, наш маленький Эдуард. Глаза у Лизбет были заплаканы, — ее жених, ариец по фамилии Тиле, в последнее время держался отчужденно, хотя на то не было причин: ведь Лизбет только наполовину еврейка.
— Вы знаете, в каком мы положении, — начал Зигфрид и попытался улыбнуться. — Выскажите свое мнение. Я был у Герца и у Блюменфельда, у Зелигмана и у Лео Лева. Сейчас ни у кого нет наличных денег, каждый должен внести возмещение. Но через три дня и мы должны уплатить восемь тысяч марок.
— А если мы заплатим, — воскликнул Курт, — кто гарантирует, что через неделю не придется опять вносить так называемое возмещение?
Зигфрид горько усмехнулся:
— Никто не гарантирует, Курт! Мы бесправны.
По лицу Лизбет видно было, что она вот-вот разразится слезами. Спокойнее всех был малыш, который, несмотря на все, что ему ежедневно приходилось переносить в школе, не понимал грустного смысла разговора. Он сидел, прижавшись к отцу и обхватив его шею своими худенькими ручонками.
И все же я едва решаюсь написать это и пишу лишь для того, чтобы вы получили верное представление о вещах; так вот, когда мы все сидели рядышком за столом, я вдруг отчетливо ощутила трещину, расколовшую нашу семью. Зигфрид и маленький Эдуард остались на той стороне, Курт, Бернхард и Лизбет — оказались на этой, а я, я — между ними. Они не смотрели друг другу в глаза открыто и прямо, как раньше. Не могу не сказать об этом: мне показалось, что их глаза выдают недобрые мысли. Страшно подумать, — эту враждебность они испытывали к Зигфриду!
Курт сказал ядовито:
— Вот они, твои еврейские друзья! Куда же девалась хваленая еврейская взаимопомощь?
Зигфрид удивленно взглянул на него. Несомненно, он воспринял слова Курта так же, как и я. Но промолчал.
— Нам давно надо было уехать за границу, — раздраженно бросил Бернхард и злобно взглянул на отца. При этом именно он в тридцать третьем не хотел уезжать из Берлина, не хотел покидать Германию.
Зигфрид и на него лишь молча взглянул.
Лизбет заплакала.
Жутким холодом повеяло между нами. Нам бы броситься на шею друг другу, выплакаться и дать слово держаться вместе, что бы ни случилось. Но нет, одни упреки, озлобление и вражда. Зигфрид воспитывал детей не в еврейских, а в христианских обычаях. И вот теперь они не разделяли его чувств. Во всяком случае, мне кажется, что в этот момент они отнеслись к нему, как к чужому. А он сидел, понурясь, словно чувствовал это. Я переводила глаза с одного на другого, и страх все сильнее охватывал меня. Как мало их связывает! И сама уличила себя в том, что почти критически, как бы со стороны, разглядываю Зигфрида, моего бедного супруга, его массивную фигуру, темные, лишь слегка поседевшие волосы, его широкое тяжелое лицо с темными глазами и мясистым тупым носом. Все наши взгляды в те дни были отравлены ядом. Только маленький Эдуард, так похожий на Зигфрида, в своей чистой детской привязанности оставался на его стороне, несмотря на все поношения в адрес отца, которые ему приходилось выслушивать в школе. Именно он всегда охотно слушал отцовские рассказы о еврейском народе, о его истории и его обычаях; остальные наши дети никогда не проявляли к этому интереса.
Мучительно долго тянулось молчание: каждый сидел, уставясь в одну точку. И Зигфрид тоже. Что происходило в его душе? Он был так одинок: ведь и я заколебалась. Заколебалась между ним и детьми. Он сидел среди нас, прикрыв печальные глаза и опустив голову так низко, что его бритый подбородок, из-за густоты волос всегда казавшийся чуть голубоватым, упирался в грудь. Мне бы подойти к нему, обнять его умную, добрую голову и сказать слова утешения. Не знаю почему, но я этого не сделала.