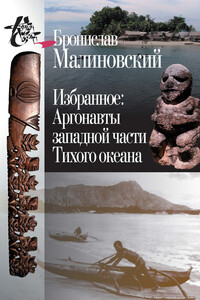Первое, что обязан был бы сделать любой воображаемый диктатор в области образования, — это обеспечить начальному образованию уровень настолько высокий, насколько это возможно, и уже в качестве второго шага добиться, чтобы никто не получил образования слишком много, даже ограничив число приобщившихся к "высшему образованию" третью (к примеру) от тех, кто получает его сегодня. (Я не желаю диктатора даже в образовании, но иногда имеет смысл вывести фигуру гипотетического диктатора в качестве иллюстрации.) Ибо одна из потенциальных причин вырождения университетов есть вырождение от более низкого уровня. Университеты вынуждены учить тот контингент, который, они получают в качестве материала: ныне они обучают английскому в Англии. Американские университеты, еще со времен Чарльза Уильяма Элиота[117] и современных ему "педагогов", в безумной погоне за численностью стремились сделаться столь крупными, сколь это возможно; гораздо легче обратить маленький университет в большой, нежели сократить численность слишком разросшегося. И после того, как Элиот научил Америку, что университеты должны быть максимально большими (я видел университет, гордившийся приемом 18 тысяч студентов, включая, впрочем, вечернее отделение), Америка очень разбогатела, — то есть она произвела на свет значительное число миллионеров, и уже следующее поколение занялось столь же безумной программой строительства университетов, возведя в короткий срок большое количество внушительных, хотя кое-где и построенных довольно наспех, зданий, общежитий и даже церквей. А коли вы пустили столько денег на строительство и оборудование, когда у вас такой большой (хотя и не всегда хорошо оплачиваемый) штат мужчин, в большинстве своем женатых и имеющих нескольких детей; когда вы пропускаете через аспирантуру все больше и больше мужчин, получающих дополнительное образование, чтобы стать преподавателями в других университетах и, возможно, также собирающихся жениться и иметь детей; когда вся ваша национальная система высшего образования предназначена для эпохи экспансии, для страны, стремящейся максимально увеличить свое население, разбогатеть и построить еще больше университетов, — тогда вы поймете, как трудно дать задний ход.
То, что происходит в Америке, не так уж неприменимо к Англии, как обычно считают. Ибо, как я уже говорил, мы должны признать кризис образования не в одной стране, а во всех, — кризис, имеющий свои общие черты повсюду. То, что происходит в американских университетах, может произойти и в провинциальных университетах Англии; а то, что происходит в провинциальных университетах, влияет на происходящее в Оксфорде и Кембридже. Мы уже давно вошли в эпоху значительных социальных перемен. Я не возражаю против этого; но думаю, коль скоро мы согласны, что эти социальные перемены неизбежно влекут за собой и перемены в нашей системе образования, в наших представлениях о том, кто должен получать образование и как, и в еще более запутанном вопросе — почему, не лучше ли бы для нас было дать образованию разумное направление, нежели предоставить ему заботиться о себе самому.
И вот, на этом меняющемся широком фоне, очень важном для моей картины, я собираюсь поставить вопрос о месте классической филологии в современном образовании. Мы различаем три тенденции в образовании, как и в политике: либеральную, радикальную и ту, которую я, — возможно, просто потому, что она моя собственная, — испытываю искушение назвать ортодоксальной. Используя эти термины для определения тенденций в образовании, я не хотел бы проводить никаких близких политических параллелей, поскольку в политике ничто не существует в чистом виде.
Либеральная позиция в отношении образования нам наиболее знакома. Она склонна поддерживать ту явно не вызывающую возражений точку зрения, что образование не есть простое усвоение фактов, но тренировка ума как инструмента, могущего иметь дело с любым классом фактов, рассуждать и прилагать знания, полученные в одной области, к иным областям. Вывод, из этого делающийся, таков: один предмет так же полезен в деле образования, как и другой; студент же должен следовать своим склонностям и изучать те предметы, какими бы ему ни случилось заинтересоваться более всего. Студент, пробующий себя в геологии, и другой, занятый языками, могут оба в конце концов найти себя в торговле: предполагается, что если при равных способностях оба они максимально воспользовались предоставленными им возможностями, то в равной мере будут соответствовать как своей профессии, так и "жизни". Мне кажется, теорию, согласно коей хорошей тренированности ума можно добиться с помощью изучения любого предмета, а выбор класса изучаемых фактов не имеет значения, можно распространить слишком далеко. Существует два рода предметов, на ранней стадии обеспечивающих тренировку ума, хотя и весьма скудно. К одному из них принадлежат предметы, в большей мере занятые теориями и историей теорий, нежели обеспечением ума информацией и знаниями, необходимыми для построения теории: таким, в частности, предметом, и весьма популярным, является экономика, состоящая из набора сложных и взаимопротиворечащих теорий, предмет, никоим образом не претендующий на научный статус, обычно основанный на недозволенных допущениях, незаконное дитя отказавшегося от него родителя — этики. Даже философия, отделившаяся от богословия, знания жизни и установленных фактов, дает хоть на мгновение пищу голодному или глоток воды, оставляя после себя все ту же засуху и разочарование. Предметы другого рода, обеспечивающие безразличное к их сути обучение, — слишком детальны и специфичны, их отношение к общему делу жизни не является очевидным. Есть еще третий предмет, равно не пригодный для простой тренировки и не подпадающий ни под один из данных классов, но он не годится по своим собственным причинам: это английская литература, или для более емкого определения — литература на родном языке.