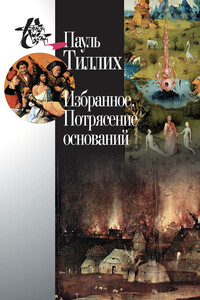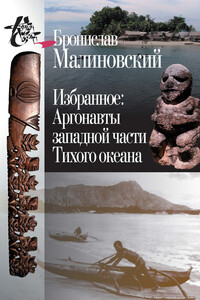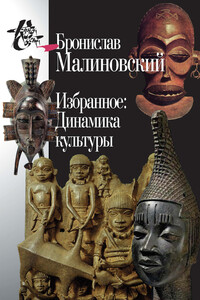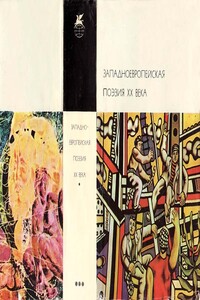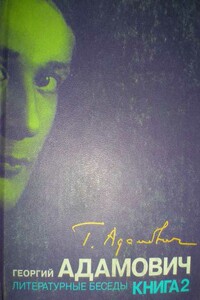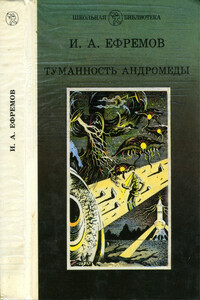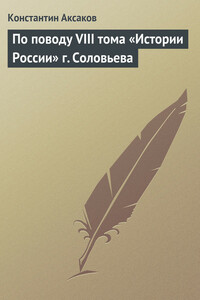Много лет назад в эссе о творчестве Драйдена, я написал следующее:
В XVII веке происходит распад цельности мировосприятия, от которого мы так и не оправились; и этот распад совершенно естественно был усугублен влиянием двух самых крупных поэтов века — Мильтона и Драйдена[773].
Более пространный пассаж, из которого заимствован этот отрывок, д-р Тилльярд[774] цитирует в своем "Мильтоне", отзываясь о нем следующим образом:
Касаясь лишь того, что в этом абзаце относится к Мильтону, я бы отметил, что истина здесь перемешана с ложью. В некотором роде распад цельности мировосприятия, не обязательно нежелательный, у Мильтона действительно присутствует; но то, что Мильтон повинен в подобном распаде мировосприятия у других поэтов (особенно до того, как этот всеобщий процесс стал неизбежностью), не соответствует действительности.
Я думаю, что общая идея, выраженная фразой "распад цельности мировосприятия" (одна из двух или трех формул, изобретенных мною, — вроде "объективного коррелята"[775], — и завоевавших успех, удививший их автора), сохраняет свою значимость и сегодня; но теперь я готов согласиться с д-ром Тилльярдом в том, что возлагать подобное бремя на плечи Мильтона и Драйдена было ошибкой. Если подобный распад и имел место, то причины его, я полагаю, были слишком сложны и слишком глубоки, чтобы наше объяснение произошедших перемен, выраженное только на языке литературной критики, посчитать удовлетворительным. Мы можем сказать только следующее: нечто подобное действительно произошло; оно как-то было связано с гражданской войной; неразумно винить одну гражданскую войну в его возникновении; ибо явление это само стало следствием тех же причин, которые привели к гражданской войне; мы же должны искать эти причины в Европе, а не в одной только Англии; и каковы бы ни были эти причины, мы можем докапываться и докапываться до их корней, пока не проникнем на такую глубину, где слова и мысли откажутся нам служить.
Прежде чем вернуться к обвинениям против Мильтона, с которыми поэты имели дело двадцать пять лет назад — во втором и единственно важном значении слов "дурное влияние", — правильнее всего будет, на мой взгляд, рассмотреть, какие здесь были бы уместны "упреки вечного осуждения", т. е. порицания, высказанные с оглядкой на бессмертные законы вкуса. Квинтэссенцию упреков такого рода следует искать, я думаю, в эссе С. Джонсона. Здесь не место разбирать те или иные частные и ошибочные суждения Джонсона; объяснять его недовольство "Комусом" и "Самсоном-борцом"[776], которые он судил по драматическим канонам, вышедшим сегодня из употребления; или объяснять его неприятие стихов "Ликида", вызванное скорее своеобразием чувства ритма у критика, чем отсутствием у него этого чувства вообще. Все самое важное о Мильтоне Джонсон сказал в трех абзацах, и я с позволения читателя процитирую их полностью:
Все его наиболее великие творения, — говорит Джонсон, — отмечены единой особенностью поэтического языка, тона и склада выражений, коих мы не найдем ни у кого из его предшественников и кои настолько далеки от норм словоупотребления повседневного, что читатель неученый, впервые взявший в руки книгу его стихов, с изумлением обнаружит, что она написана на языке, для него незнакомом.
Тот, кто не находит у Мильтона никаких недостатков, приписывает сию необычность настойчивым усилиям поэта найти слова, подходящие для грандиозного замысла его. "Наш язык, — говорит Аддисон, — рухнул под его тяжестью". Истина же заключается в том, что как в прозе, так и в стихах Мильтон основывал свой стиль на принципах превратных и педантичных. Английские слова он желал соединять с иностранными оборотами речи. Все, кто читал его прозу, отметили это и признали за недостаток, потому как могли судить ее свободно, не будучи умягчены красотой стиха и поражены величием мысли. Но такова сила поэзии Мильтона, что устоять перед ней невозможно, и читатель легко покоряется рассудку более возвышенному и более благородному, и критика уступает место восхищению.
Стиль Мильтона не меняется в зависимости от содержания; все, что столь наглядно демонстрирует "Потерянный Рай", можно найти уже в "Комусе". Важная причина подобного своеобразия кроется в знакомстве Мильтона с поэтами тосканской школы; сам порядок слов его зачастую кажется итальянским, а порой словно бы заимствованным из других языков. В итоге можно сказать, воспользовавшись словами Бена Джонсона о Спенсере, что Мильтон не писал ни на одном языке, но создал то, что Батлер называлвавилонским наречием