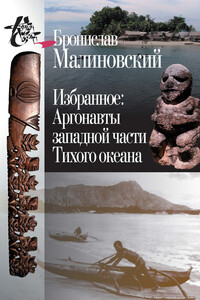Избранное. Том I-II. Религия, культура, литература - страница 133
Pietas в данном случае можно объяснить только через понятие fatum. Это слово постоянно встречается в "Энеиде", на нем лежит огромная смысловая нагрузка, гораздо больше той, о которой мог знать сам Вергилий. Ближайший его перевод — "судьба", однако вряд ли мы сможем подобрать все дефиниции, которые бы целиком покрывали широчайшее поле его значений. В механической вселенной это слово может вообще не иметь никакого смысла: ведь если нечто, когда-то свернутое, должно разбежаться в разные стороны, о какой судьбе вообще может идти речь? В необходимости или, наоборот, в капризе судьба не проявляется, она изначально должна предполагать некий смысл. У каждого человека есть своя судьба, хотя не всякого можно назвать "человеком судьбы"; Эней же проявляет себя как человек судьбы в самой высшей степени, поскольку именно от него зависит будущее всего Западного мира. Это избранничество невозможно объяснить, в него входят понятия бремени и ответственности, но никак не самовозвеличивание. Просто кому-то одному даруется нечто, необходимое в ситуации глубокого кризиса, причем ни сам дар, ни ответственность, с этим связанная, к личным достоинствам избранника не имеют никакого отношения. Некоторые из тех, кто имел глубокое убеждение относительно своего избранничества, весьма преуспели, оставаясь в нем, но стоило им перестать действовать в качестве инструмента и посчитать себя активным источником своих поступков, как их гордость наказывалась катастрофой. Энеем движет глубочайшая убежденность в своем предназначении, но он — смиренный человек, знающий, что судьбы своей не следует ни желать, ни пытаться избежать. Какой власти он служит? Не власти богов, которые сами являются инструментами судьбы, иногда впадающими в своеволие. Понятие судьбы оставляет нас перед тайной, но тайна эта не противоречит разуму, поскольку предполагает, что и мир, и ход человеческой истории имеют смысл.
Равным образом, следование предназначению не освобождает людей от моральной ответственности. Так, по крайней мере, я прочитываю эпизод с Дидоной[222]. Любовь Энея и Ди- доны подстроена Венерой: никто из любовников не имел возможности воздержаться от этого шага. Да и сама Венера действует не из каприза или с целью навредить. Конечно же, она гордится судьбой, уготованной сыну, но совсем не ведет себя как ослепленная любовью мать: она оказывается лишь инструментом осуществления его судьбы. Эней и Дидона должны были соединиться, чтобы потом расстаться. Эней не колебался, он проявил покорность своей судьбе. Но при этом, конечно же, чувствовал себя несчастным и, как я полагаю, испытывал стыд в связи со своим поступком. Зачем же в противном случае Вергилию заниматься описанием его встречи с тенью Дидоны в Аиде и того унизительного приема, который он там получил? Увидев Дидону, Эней пытается оправдаться за свою измену. Sed me iussa deum — но мне так приказали боги; я вынужден был принять неприятное решение, и мне очень жаль, что ты так тяжело его восприняла. Она избегает его взгляда и отворачивается, при этом лицо ее остается неподвижным, словно высеченным из кремня или Марпесского мрамора. Я не сомневаюсь, что когда Вергилий писал эти строки, он сам проигрывал роль Энея и наверняка чувствовал себя ничтожным червем. Нет, судьба, подобная судьбе Энея, совсем не облегчает человеку жизнь: это весьма тяжкий крест. И я не могу припомнить ни одного героя античности, который бы оказался в подобной ситуации неизбежного унижения. Как мне кажется, поэтом, которому бы более всех пристало посоревноваться с Вергилием в изображении подобной ситуации, был Расин. Несомненно, христианский автор, давший своей неистовой Роксане[223] такую жгучую строку — "Rentre dans le Neant d'oii je t'ai fait sortir"[224] — мог бы лучше других найти Дидоне слова на этот случай.