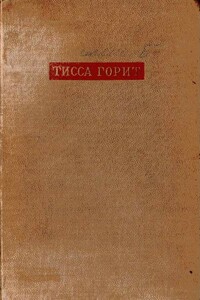— Штопор я захватил, а вот стаканы — за вами, товарищ Иллеш!
Стало совершенно ясно: Толстой знал, что я остался не у дел и живу сейчас, мягко выражаясь, более чем скромно. Прошел час в разговорах, и Толстой стал прощаться.
— По вопросу о «Цинандали» я зайду к вам в ближайшее время. Не думайте, что я забыл.
Еще раза три-четыре Толстой заходил ко мне подобным образом. Он кормил, поил меня, а остатков хватало еще на несколько дней. Потом времена переменились, жизнь снова улыбнулась мне, и Толстого, перестал занимать вопрос о вине «Цинандали». Он снова перешел к прежнему нашему шапочному знакомству: мы только раскланивались при встрече…
2
В январе 1943 года Советская Армия освободила Харьков от немцев. Я служил в то время в политуправлении штаба Воронежского фронта. Как-то ночью получаю телеграмму из «Красной звезды». Просят срочно отправиться в деревню под Харьковом (название, к сожалению, я забыл) и написать очерк о том, что я там увижу. Заранее скажу, что хотя в деревне этой я тогда побывал, но очерк о ней не написал до сих пор и, пожалуй, не напишу ничего, кроме того, что вы сейчас услышите.
Я тронулся в путь с восходом солнца и ранним утром был уже на месте. Меня ожидала знакомая картина: дотла сгоревшие дома с торчащими печными трубами. Один лишь дом в этой деревне почему-то оказался в целости и сохранности. До войны здесь, вероятно, помещалась сельская школа или сельсовет. Толпа крестьянок стояла перед этим домом, люди стонали, рыдали, угрожали. Наши солдаты едва сдерживали их напор. Не успел я протиснуться сквозь толпу, как из дома вышел Алексей Толстой в сопровождении какого-то полковника. Надо было видеть Толстого: всегда высокий, с гордой осанкой, он стоял теперь согбенный предо мной. На лице его был написан ужас и замешательство. Я окликнул его, но он узнал меня тогда лишь, когда я назвал себя по имени. Посмотрев на меня долгим взглядом, он положил руку на мое плечо:
— Не заходите в этот ад! Бегите отсюда, бегите немедленно… Не заходите в дом, это нельзя смотреть, нельзя…
Я не буду описывать, что я увидел в этом ужасном доме, скажу только, что какой-то нацистский медик проводил в нем опыты над детьми… он выпускал из детей кровь до последней капли и тщательно записывал, сколько литров крови в годовалом, двухлетнем, пятилетием и шестилетием ребенке… В доме лежали детские трупы, и к голым ножкам каждого ребенка были привязаны этикетки, на которых были обозначены возраст маленьких мучеников и количество выпущенной из них крови. Пошатываясь, я вышел на улицу.
— Есть у нас водка, Митя? — спросил я шофера.
Водитель испугался то ли голоса моего, то ли взгляда.
Он уже разговаривал с женщинами. Он уже знал, что я видел.
Впервые в жизни и, надеюсь, в последний, я одним духом выпил пол-литра водки. Шофер помог мне сесть в машину и повез меня обратно в штаб.
Дороги не помню. В штабе у меня ничего не спросили. Еще много дней спустя со мной обращались как с тяжело больным человеком.
С Алексеем Толстым мне больше не довелось встретиться.
Мой сын Володя, когда ему исполнилось восемь лет, жил под Москвой, в Голицыне, — там мы и справляли его день рождения. Человек двадцать ребят-гостей привез из Москвы грузовик сразу после обеда. Из взрослых в тот день приехал лишь один гость — Матэ Залка.
Он привез Володе в подарок небольшую шашку с медной рукоятью. Шашка была наподобие тех, которыми рубились красные казаки-кавалеристы, только размером поменьше. Володя был наверху блаженства от подарка дяди Матэ. Шашка, как и следовало ожидать, определила весь дальнейший ход праздника: через десять минут после приезда дяди Матэ во дворе уже началось сражение «красных» с «белыми». Не знаю, как уж получилось, но в один прекрасный момент превосходящие силы «белых» оттеснили «красных» в угол двора, к забору, где росла серебристая береза.
Мальчик Толя — из «красных» — так огорчился этим, что не удержался от слез. Матэ Залка, с улыбкой наблюдавший за ходом боя, покачал головой:
— Ай-яй-яй, Толя! И ты еще называешь себя красным солдатом?
— Да, вы не видите, что их больше!