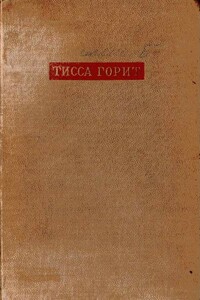«Мы всегда, всегда совершаем одну и ту же ошибку! Всегда думаем, что враг наш глуп, слеп, глух и парализован!..»
На склоне горы было холодно, а ноги у меня промокли до колен.
Я поспешил домой.
Когда я шел уже по деревне, кто-то окликнул меня:
— Геза! Геза Балинт!
В одноглазом выбритом человеке, одетом в немецкую солдатскую шинель, с серой, мягкой шляпой на голове, я не узнал младшего Чарада, брата моего бывшего школьного товарища, пока он не назвал себя. Тот Чарада, с которым я сидел в школе на одной парте, погиб на сербском фронте. Его младший брат, потерявший глаз в Албании, теперь был учителем в Сойве.
— Я слышал от двухголового, — говорил Чарада, — что ты был в плену в России, видел и слышал Ленина.
— Я не был в плену и не понимаю, почему врет этот Вихорлат, — ответил я раздраженно.
— Наверное, из самых добрых намерений. Ты давно уже не бывал в наших краях, поэтому называешь это ложью.
— Давно не бывал в наших краях? Разве ты не знаешь, что я служил в Русинской Красной гвардии?
— Знаю. И Вихорлат знает, что ты своим телом защищал Миколу. Потому он и ценит тебя так высоко, что говорит о тебе, будто ты видел Ленина.
— Но я никогда не защищал Миколу своим телом.
Чарада глубоко вздохнул.
— Ты давно не бывал в наших краях, — сказал он. — Но важно то, что теперь ты здесь и остаешься здесь.
— Ты преподаешь в русинской школе? — перевел я разговор на другую тему.
— Я тебе сказал только, что я учитель. Но я не говорил, что где-нибудь преподаю. Я буду преподавать в русинской школе, когда в Сойве будет школа. Пока, вот уже девять месяцев, здание школы служит казармой для жандармов. С недели на неделю обещают очистить здание. Обещают… А пока не освобождают, мы с другим учителем, молодым парнем из Праги, играем в шахматы.
Чарада пригласил меня обедать.
— Время у тебя есть. С тех пор как у нас чешский режим, завод работает на два часа меньше, чем прежде, но без перерыва. Кончают в четыре.
Во время обеда, состоявшего из венгерского гуляша, я познакомился с другим учителем, Ярославом Станеком. Он, как и Чарада, жил и столовался у жены венгерского почтмейстера. Очень молодой, высокий, худой, в своем спортивном костюме, сероглазый и светловолосый Станек был сыном профессора Пражского университета. Хотя он имел квалификацию учителя средней школы, но изъявил желание пойти работать народным учителем, чтобы распространять культуру среди освобожденных славянских братьев. Условия на Карпатах были не совсем такими, каких он ждал, но трудность задачи только увеличила энтузиазм Станека. Он посылал в Прагу телеграмму за телеграммой с требованием ускорить дело с освобождением здания школы. С этой же целью он ездил два раза в месяц в Ужгород. Так как он был настоящим чехом, то получал в месяц жалованья на четыреста крон больше, чем Чарада, который был «только русином». И на добрую половину этих денег покупал книги, которые раздавал в деревне, чуть ли не умоляя получавших их читать, учиться и приобретать культуру. В Праге он в течение двух лет изучал русский язык, а в Сойве учился у Чарада русинскому языку. Он уже умел немного говорить по-русински, но тот, кто не знал чешского языка, с трудом понимал его. Со мной он разговаривал по-немецки.
Он уже знал, что я только что вернулся из русского плена, и был очень рад возможности услышать наконец от интеллигентного человека, что происходит в государстве «наших великих славянских братьев». Ему было очень неприятно, что я отрицал свое пребывание в плену. Он покраснел до слез, когда ему показалось, что я не хочу рассказывать о виденном мною в Москве, потому что не доверяю ему. Для того чтобы немного успокоить его, я стал рассказывать анекдоты о сойвинской школе во времена моего детства. Анекдоты вызвали у него не смех, а грусть.
— Мне страшно жаль наших русинских братьев! Им пришлось так много выстрадать. И я очень горжусь тем, — продолжал он после короткой паузы, — что мы, чехи, принесли им освобождение и культуру. Через пять — десять или сто лет, когда русинская культура будет уже стоять высоко, о нас будут, наверное, вспоминать с благодарностью за то, что мы создали первые русинские школы.