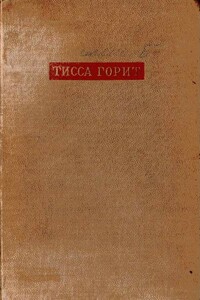— Хорошо, что ты все понял.
— Да, хорошо.
Он безмолвно и неподвижно глядел в огонь, крепко сжав губы. Невысказанная жалоба Григори удручающе действовала на всех нас. Хозелиц, переживавший уже не раз то, что случилось сейчас с Григори, начал шутить, чтобы развеселить нас. Но искусственная веселость не заражает.
Когда Хозелиц умолк, заговорил я. Я говорил о больших будапештских демонстрациях, о майских баррикадных боях. Я думал, что мои слушатели будут изумлены геройством будапештских рабочих. Но вместо этого мне самому пришлось удивляться — пеметинцы находили совершенно естественным, что борющийся за свое дело рабочий не боится смерти. Я их хотел поучать, а вышло так, что я учился у них.
Попал я домой на рассвете. Утром не мог встать.
Готовясь в Будапеште к экзаменам на аттестат зрелости, я чувствовал необычайную усталость, которая не покидала меня и после экзаменов. Даже и сейчас, уже целую неделю живя в лесу, я был так слаб, что пришлось лечь в постель. Мать измерила температуру. Тридцать семь и две.
— Ничего. Отдохнешь денька два.
Я пролежал три дня, но усталость не проходила. А термометр упорно показывал тридцать семь и две. По ночам я потел. Отец пригласил врача.
Доктор Шебек основательно осмотрел меня. Пока он измерял мне температуру, мы с ним разговаривали.
— Что вы скажете относительно сербов и болгар? Нахальство, не правда ли?
— Признаюсь, господин доктор, я не верил, что в Европе еще возможна война.
Доктор засмеялся.
— Во-первых, милый Геза, Балканы это не Европа. Географически они, правда, принадлежат к Европе, но в отношении культуры этого сказать нельзя. В этом отношении они полудикари. Во-вторых, то, что сейчас происходит на Балканах, не война, а трактирная драка. Четыре крошечных опереточных государства против великой, могущественной Турции! Турция съест этих «противников» за завтраком. Даю вам слово. Ну-ка, покажите термометр. Тридцать семь и две. М-да…
Доктор определил, что у меня поражены верхушки легких.
По его совету я лежал по целым дням во дворе, под большим дубом, на подстилке, сделанной из сосновых веток.
— Хороший воздух исцелит его, — сказал доктор. — Больше никаких лекарств не нужно. Через четыре недели он встанет.
Доктор Шебек оказался плохим пророком и как политик и как врач. Что касается политики — Турция не съела своих противников, а наоборот, армии четырех «опереточных государств» (не считаясь с тем, что вся венгерская пресса разделяла мнение Шебека) выигрывали одну битву за другой. Симпатии Венгрии принесли Турции так же мало пользы, как мне — хороший воздух. Когда война придвинулась уже к самому Константинополю, к Чаталдже, однажды утром у меня началось кровохарканье.
Приглашенный из Марамарош-Сигета врач советовал перевезти меня куда-нибудь на юг — в Италию или в Египет. Об этом, конечно, не могло быть и речи, так как понадобились бы деньги. Но поехать в Пешт учиться я, конечно, не мог и остался в Пемете.
Оставшись в Пемете, я пережил события, которые даже немого могли сделать оратором и слепого — зрячим. Не смейтесь надо мной — я и сейчас с благодарностью вспоминаю свою болезнь и доктора Шебека за то, что он не мог меня вылечить. Если бы он поставил меня на ноги, я бы, вероятно, пошел по одному из двух путей, которые избирали многие образованные сыны Подкарпатья. Либо я получил бы диплом и возвратился в Подкарпатский край и использовал бы свои знания для одурманивания, угнетения и ограбления жившего там народа, либо переехал бы в другой край и, позабыв родные места или даже изредка вспоминая их, рассказывал бы в веселом обществе анекдоты о простодушии тамошних жителей. Из-за своей болезни я пережил вместе с народом Подкарпатья много тяжелых часов и месяцев и — стал «предателем». Так назвал меня директор берегсасской гимназии, с гордостью перечисляя на сорокалетием юбилее имена своих бывших учеников, которые завоевали Берегсасу славу, сделавшись генералами, депутатами, директорами банков. Гордился он и тем, что только один берегсасский гимназист, по имени Геза Балинт, изменил благонравным традициям, прививаемым его учебным заведением, и заклеймил меня — «предателя» — презрением.