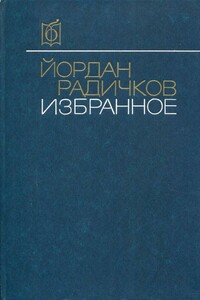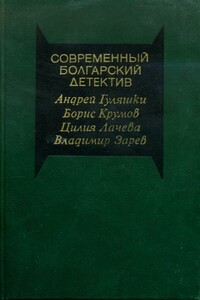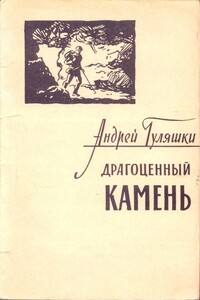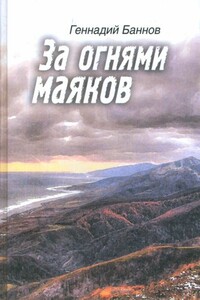Я закрываю глаза, вслушиваюсь в тишину и лежу так несколько мгновений, почти не дыша. Теперь я знаю, что совсем проснулся. Сон пропал, прошло и состояние «спросонья», а к а т м а н д у, которого не существует, провалилось ко всем чертям, в небытие. Даю слово, что больше о нем не вспомню.
В комнате темно, жалюзи спущены, их планки плотно прижаты одна к другой. А там, где между ними есть щелки, куда заглядывает солнечная лава тропического дня, словно бы сверкают острия бритв. И перед моим мысленным взором вытягивается наша улица. Она единственная, потому что остальные — переулки. В сущности, даже не переулки, а просто маленькие площади причудливых очертаний, окруженные раскиданными как попало домишками с оградами и без оград. Бросьте горсть бобов на блестящий серебряный поднос. Проведите пальцем прямую линию среди бобовых зерен. Это наш город. От Бамако до него один день пути по железной дороге. Прямая, которую вы провели пальцем, и есть наша улица. До освобождения она кичилась звонким именем прославленного французского полковника. Теперь она называется бульвар Свободы. Это маленький, метров восемьсот длиной, зеленый бульвар, обрамленный двумя рядами высоких пальм, блистающий белыми фасадами ресторанов, магазинов и банков, всегда веселый благодаря пестрым солнечным навесам. Эти навесы, дающие тень магазинам, защищают от палящих лучей головы двух моих добрых друзей — Жака и Ахмеда, продавцов апельсинового сока. Красная, желтая и синяя краски буйствуют на этих навесах. Яркие краски и смех, опьяняющий жизнерадостный смех, — единственные владыки, с которыми малийцы, по-видимому, никогда не расстанутся. Жак — черный и низенький. Ахмед — шоколадно-бронзовый, вытянутый вверх, словно готическая статуя. Они улыбаются мне радостно, дружески, и я машу им рукой.
— Жак, — говорю я, — налей мне стакан сока!
— Сейчас, господин! — Зубы черного Жака блестят как перламутровые, и я думаю, что это от фруктов: Жак редко ест мясо.
— Ты до каких пор будешь называть меня «господин»? Ведь мы договорились, что ты будешь звать меня «друг»?
Не знаю, с каким цветком можно сравнить улыбку Жака. Навряд ли есть такой цветок. Представьте себе человека, который до вчерашнего дня не имел ничего, а, сегодня владеет всем миром. До вчерашнего дня этот бульвар был неприкосновенной «авеню» акционеров из «Месажери Африкен», и, если Жаку и случалось пройти по нему с какой-нибудь ношей на спине, он чувствовал себя незваным чужеземцем, попавшим не по своей воле в жестокую и враждебную страну. А сейчас этот нарядный бульвар принадлежит ему так же, как солнце, как знойный воздух, которым он дышит, а сеньоры из «Месажери Африкен» и «Сосьете де Бамако», которые еще появляются тут и там, — чужеземцы, незваные гости, спешно складывающие свои чемоданы. Поэтому улыбка Жака — улыбка человека, который вчера не имел ничего, а сегодня владеет всем миром.
— Это дурная привычка — называть господином своего друга.
Я сержусь и единым духом выпиваю холодный апельсиновый сок. Разумеется, я не сержусь, а только выражаю свое огорчение. Я кладу монету на полированный прилавок и спешу скорее убраться, пока Жак не налил мне второй стакан. За второй стакан он ни за что не захочет взять с меня деньги. И я спешу куда-нибудь удрать из-под его навеса прежде, чем он нажмет ручку огромного цилиндрического сифона.
Я чувствую его взгляд на своей спине — неудержимый поток бурного восторга и суеверного обожания с примесью легкой грусти. Грусть относится ко второму стакану, которого я никогда не выпиваю.
Да, серое, пепельное небо пышет невыносимым жаром на белые здания с плоскими крышами, выстроившиеся, как солдаты, по всему бульвару Свободы, и на серые глиняные хижины, хаотично разбросанные, словно их разметал самум, — на весь этот маленький тропический мир. Под раскаленным свинцовым куполом мучительно душно, поэтому пешеходы-европейцы редкость на бульваре, несмотря на тени от похожих на свечи пальм и разноцветные солнечные навесы. Местный народ — туареги, бена, мавританцы — не чувствует духоты, да и палящее солнце не производит на них особого впечатления. Им хорошо, как хорошо рыбам в прохладных водах Нигера, ибисам и фламинго — в его тучной пойме. Они на своей земле, а на своей земле любой человек чувствует себя хорошо.