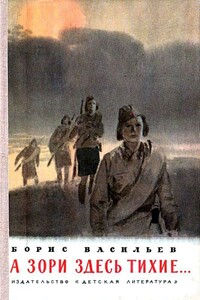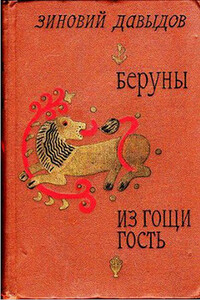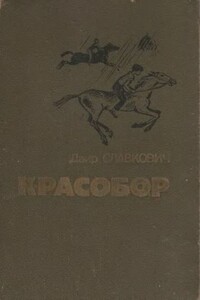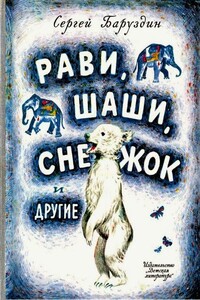— Последние времена, батька, — молвила казначея, направляясь к столу, — последние времена… Льстивыми речами крестьянишек наших по деревнишкам перемутили. Работники и кабальные люди с обители сошли, наделали себе острых копий, в Путивль побежали… Там у них объявился царь, такой же плут. Сказывали — самозванец, Гришка-расстрижка, и прозвище ему Отрепьев.
Дьякон хотел было возразить, но бражка уже пенилась перед ним в высокой чаре. «Чарка добра, человеку испити из нее на здоровье», — прочитал Григорий надпись, крупно вычерченную по оловянной посудинке. И он влил в себя чару махом и взял кусок говядины с тарелки.
— Прельстился он, еретик, на славу века сего, — продолжала казначея, отведав хмельного питья из граненого стакана. — Воровски подделывается под царского сына. Затеял не по своей мере.
Она подлила себе и дьякону, вздохнула глубоко и молвила сокрушенно:
— Уж и ты, батька, собрался не ко времени в Путивль. Того гляди, попадешь к вору на латынскую обедню.
— Не страшны мне латыны, — еле смог вымолвить дьякон, ибо рот его был туго набит снедью, которую он едва проталкивал в свою безмерно взалкавшую утробу. Он проглотил наконец застрявший у него в горле кус и залил его чашею пьяного пива. И, ударив кулаком по столу, крикнул: — Сотворю чудо — и смолкнут их органы и гусли!
— Ой, батька! — поперхнулась казначея, глотком наливки. — Какое чудо?..
Но дьякон уже не смог объяснить ей этого. Он все больше входил в раж, наполняя чрево свое пирогами, ломтями говядины, кусками рыбы и умащивая к тому же всю эту благодать чашами пива и стопами наливок. Казначея с изумлением глядела, как одно за другим из расставленного на столе быстро пропадает, точно в бездонной бочке, в дьяконовой утробе.
— Не зазяб бы ты, батька, ночью в странней, — молвила она наконец. — Пошлю истопить избу тебе страннюю.
Отрепьев только промычал, продолжая работать за четверых. И времени продлилось уже немало, а он все еще но умерил усердия, только расстегнул пуговицу однорядки да незаметным движением ослабил на портах своих ремешок. Поистине можно было подумать, что человек этот имеет две утробы — одну для еды, другую же для различного питья. Уже и послушница, отправившаяся истопить гостю на ночь страннюю избушку, вернулась обратно в келью, уже и казначею давно тянуло снова на лежанку, а Отрепьев все еще ел, пил, жевал, глотал.
Когда и как добрался Отрепьев до странней избушки, он вспомнить не мог. Даже звона колокольного не слыхал он на сенном своем тюфяке в натопленной, как баня, избушке. Он просыпался в темноте кромешной и опять засыпал, разморенный необыкновенным теплом, которое накатывало на него от нагретой печки. Но казначея не спала у себя на лежанке, хотя послушница и оснастила на ночь лежанку, как всегда, подушками, тюфяками, пуховиком и двумя стегаными одеялами. Казначея, однако, все ворочалась на лежанке, все чего-то охала и вздыхала, зевала и крестилась, старалась заснуть, но никак не могла. С час тому назад она с помощью Пелагеицы еле сволокла в страннюю избушку захожего монаха. Угомонить Григория было тем труднее, что он упирался, грозился сотворить чудо и даже стащил у Пелагеицы с головы ее шапку. К счастью, он захрапел, как только они свалили его на лавку в странней избушке и набросили на него, уже спящего, кожух.
Лампады теплились ровным светом в красном углу, отблескивая на всем убранстве казначеиной кельи и на сундуке, где на коровьем войлоке свернулась Пелагеица под короткой своей шубейкой. Девка мерно дышала, выставив из-под шубейки свои голые пятки. И вдруг казначея встрепенулась… Как и в прошлую ночь — снова плеск и топот… Залаяли собаки, загрохотало со стороны ворот, на дворе голоса, под окном фыркают кони… Казначея стала кликать послушницу, но разбудить девку среди ночи не стоило и думать: та даже не повернулась, только пятку о пятку почесала. А тем временем на дворе смолкло; одна только собака не переставала брехать, да и та вот унялась.
Наконец и мать-казначея отошла ко сну, и был ей уже дальше в эту ночь сон ровный и крепкий, без топота, плеска и им подобных непонятных звуков.