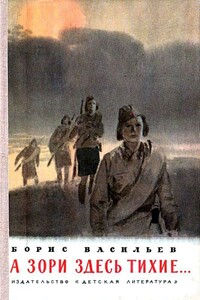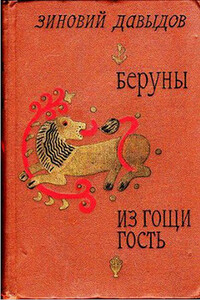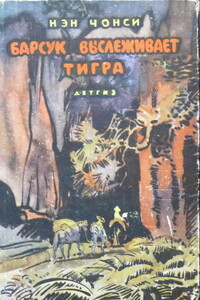Князь Андрей Иванович уже мало выходил из своей спальни и все чаще требовал сына к себе. Глядя на молодого князя, старик ерошил седые волосы и вздыхал глубоко: «Ох, ох!.. Увы, увы!..»
На двор к Хворостининым повадились без числа калеки, побродяги, мнимые пророки. Они приходили наги и босы, тряслись и вопили, предсказывая близкий конец света. У каждого из них будто были видения. Колдун Арефа после первых петухов слышал невнятный шум, а после вторых увидел поляка на рыжем коне, который взвился над новым дворцом царя Бориса. Поляк всю ночь, до третьих петухов, вился вокруг Борисова дворца и хлопал плетью.
Но колдуна Арефу превзошла Наська Черниговка, тоже известная чародейка. Она раздобыла на задворках обгорелое бревно, приволокла его под окошко спальни Андрея Ивановича и, называя бревно это Борисом, благоверным и благочестивым царем, принялась как бы кадить над ним и петь по нем панихиду. Из окошка выглянул перепуганный Андрей Иванович.
— Было мне извещение, — повернулась к нему Наська, бросивши петь и кадить. — Ночью…
— Не было тебе извещения, воруха[23], еретица!.. — прикрикнул на нее старик.
— Было мне извещение, явились ко мне ангелы…
Но старик высунулся из окна и замахнулся на нее тростью. А подоспевший Кузёмка ухватил ее сзади за локти и выпроводил прочь. После этого Андрей Иванович приказал не пускать вовсе на двор предсказателей и пророков. Он совсем расхворался от надавившей на него тревоги и по нескольку раз в день призывал к себе то Кузёмку, то туркиню, то Антонидку-стряпейку и все расспрашивал их, не было ли кого-нибудь чужого возле двора, когда злая чародейка пела страшную свою панихиду по живом царе Борисе.
Через неделю, когда старик успокоился немного, повеселел и, освеживши себя ковшом игристого квасу, хотел было посидеть на солнышке на крыльце, в комнату к нему вошел Кузёмка. Он метнул глазами туда-сюда, подошел к Андрею Ивановичу совсем близко и добыл из-за голенища бумажный листок. Андрей Иванович глядел, недоумевая, на Кузёмку и с тем же недоумением взял из рук его бумагу.
— В подворотне, милостивец-князь, лежала грамотка эта, — молвил Кузёмка, поклонившись земно и отступив к двери. — На земле лежала, кирпичом прикрыта.
— Кирпичом?!
У старика захолонуло сердце. Он развернул сложенный вчетверо листок, исписанный мелко, густо, кудряво.
— Ступай, Кузьма… Ступай уж!.. Охти мне!.. Гляди накрепко, нет ли таких листов и по другим местам. Под городьбой смотри, под тыном, под плетнями. Увы, увы!..
Конюх ушел, а старик кликнул князя Ивана и велел ему прикрыть поплотнее за собой дверь.
— Вот, сынок, видишь письмо?.. — показал он князю Ивану исписанный неведомою рукою лист. — Стали их уже метать и по боярским дворам. Ох, ох!.. Что и будет теперь?..
Князь Иван взял из рук Андрея Ивановича лист. Письмо на нем было уверенное и отчетливое, только чернила чуть поржавели от солнца либо сырости. А на гладкой голубоватой бумаге просвечивало водяное клеймо: пучок цветов и словно папская корона.
— Читай, сынок, мне тихонько грамотку эту. А как прочтешь, так и забудь.
Старик наклонился к сыну, и тот стал ему шепотом вычитывать по бумаге неслыханное, доселе небывалое, то, от чего волосы дыбом поднимались на голове.
По бумаге этой выходило, что он и впрямь был жив, царевич Димитрий, сын Иоанна, еще в 1591 году убитый, как утверждали — по наущению Бориса Годунова, и словно воскресший теперь, спустя тринадцать лет.
Старый князь Андрей Иванович требовал, чтобы сын еще и еще раз читал ему из грамоты, которая была — страшно вымолвить — от царевича и великого князя Димитрия Ивановича всея Руси и направлена была ко всем воеводам и дьякам, и всяким служилым и торговым людям, и ко всему черному люду.
— «Божьим произволением, чья крепкая рука защитила нас от нашего изменника Бориса Годунова, хотящего нас злой смерти предати: бог милосердный злокозненного его помысла не восхотел исполнит и меня, государя вашего прирожденного, невидимою рукою укрыл и много лет в судьбах своих сохранил».
У князя Ивана жарко разгорелось лицо, и огненным своим шепотом он полыхал в Андрея Ивановича, то и дело заглядывавшего к сыну в бумагу.