Постараемся дать ответ на оба возражения.
Первое не выдерживает критики хотя бы уже потому, что алчный Иуда, точно запомнивший все пророчества Иисуса (причём пророчества весьма конкретные, называющие дату грядущей трагедии) и поверивший им, скорее бы удрал с денежным ящиком, чем вступил в преступный сговор с врагом ради сомнительной выгоды — ведь он понятия не имел, сколько предложат ему первосвященники. Дни Иисуса всё равно были сочтены — пророчества Учителя не могут лгать! — после же его смерти никому уже не будет дела ни до пропавшей общинной кассы, ни до исчезнувшего казначея: растерянность и страх всецело овладеют сердцами малодушных учеников. Ищи потом ветра в поле!
Кем в таком случае был бы предан Иисус? Иуда на это мог бы только пожать плечами: не всё ли равно? Не он, так другой сделает это — проречённое Учителем не может не сбыться! Тем более, что в своих речах Иисус ни разу не называет имени предателя. Главное для Иуды сейчас — скрыться с денежным ящиком, пока это было ещё возможно. Иисус же пускай сам решает свои проблемы и «приводит в исполнение» собственные пророчества.
Так, или примерно так мог бы рассуждать Иуда, замысли он поживиться за счёт Иисуса и его общины. Однако в этой версии нет места сговору с первосвященниками и тридцати серебренникам. Но мы знаем, что сделка была совершена — следовательно, данная версия несостоятельна.
Вторая версия столь же уязвима, сколь и первая.
Так ли уж верно предположение о том, что в общинной кассе к моменту ареста Иисуса скопилась большая сумма денег? Скорее следовало было допустить, что казна к тому времени оскудела: триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим накануне пасхальных праздников при большом стечении народа наверняка сопровождался раздачей милостыни в значительно больших размерах, нежели обычно. В этом случае содержимое денежного ящика не могло представлять для Иуды настолько большой ценности, чтобы ради него предать Учителя в руки врагов.
Далее, согласно предложенной версии Иуда предал Иисуса из опасения мести с его стороны в случае похищения им (Иудой) общинных денег. Однако после смерти Иисуса оставались ещё одиннадцать учеников, которых осторожному казначею следовало бы опасаться никак не менее, а то и более их Учителя: вряд ли христианские принципы милосердия и всепрощения успели пустить глубокие корни в сердцах бывших «рыбарей» из Галилеи. Да, растерянные и убитые горем, они проявили малодушие и даже трусость, когда Иисус покинул их (вновь вспомним троекратное отречение Петра), однако мы знаем, что очень скоро дух их окреп, «исполнились все Духа Святого» (Деян. 2:4); закалённые в лишениях и невзгодах, преследуемые властями и недругами, понесли они свет нового учения не только своим соплеменникам, но и далеко за пределы древнего Израиля. Никогда не узнал об этом Иуда, ибо к началу самостоятельного служения апостолов был уже мёртв, однако за три года совместных странствий он имел возможность основательно присмотреться к своим «коллегам» по общине и потому не мог не заметить, что за малодушием, маловерием и пассивностью учеников скрываются порой отчаянный характер и искренняя готовность к самопожертвованию во имя святого дела, ради которого пришёл на землю Иисус. Особенно следовало опасаться ему сыновей Зеведеевых, Иоанна и Иакова, прозванных Сынами Грома за их необузданный и горячий нрав. Не приведи Бог встретиться с ними на узкой дорожке, когда за спиной у тебя бремя страшного злодеяния, приведшего Учителя на крест! Или тот же Пётр, наречённый Иисусом Кифой (Камнем) — разве он, трижды отрекшийся, не встал тем не менее с мечом в руке на защиту своего Учителя, тогда, в ночь ареста? Нет, не мог Иуда подвергать своё будущее благосостояние и собственную жизнь столь явному риску — с тем, чтобы остаток дней своих трястись от страха в постоянном ожидании встречи с учениками Иисуса.
Таким образом, мы должны согласиться с Ренаном: одной скупостью и алчностью сговор Иуды с первосвященниками объяснён быть не может. Следует искать иные мотивы.
3.
Допустим, — предвидим мы новую аргументацию наших оппонентов, — доводы Ренана по-своему верны. Допустим также, что Иуда, идя на сговор с врагами Иисуса, руководствовался не корыстью и жаждой наживы, а какими-нибудь другими мотивами, в явном виде не отображёнными в евангельских текстах. Но разве это снимает с него обвинение в преступлении? Разве злой умысел в его деянии уже исключён? Отнюдь. Обратимся всё к тому же Ренану и продолжим цитату, приведённую защитниками Иуды: «Не было ли самолюбие Иуды уязвлено упреком, полученным во время трапезы в Вифании?»
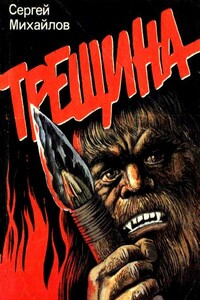
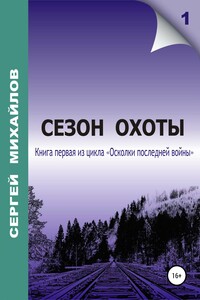
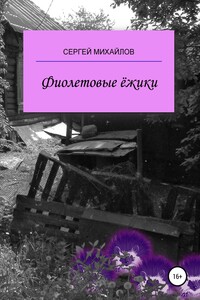
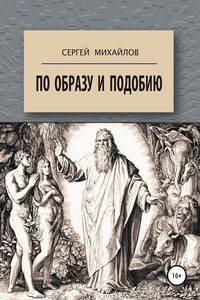
![Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/uploads/books/images/95/95f6ffb56eb7d32230aa92dfe99a268d2b7c17b6.jpg)


