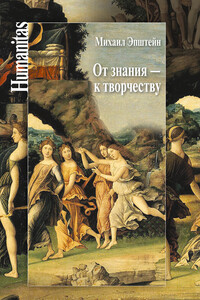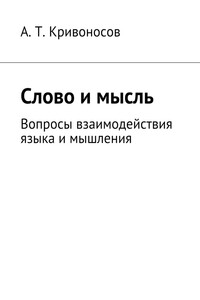Однако при сопоставлении славянских языков с прочими индоевропейскими это цепевидное членение прекращается. Не подлежит сомнению, что из всех других индоевропейских языков ближе всего к славянским стоят языки балтийские (литовский, латышский и вымерший древнепрусский). Но нельзя сказать, какой именно балтийский язык ближе всего к славянским и какой именно славянский ближе всего к балтийским. Вместо цепевидного членения здесь имеется иной тип членения, который можно было бы назвать кирпичевидным. И, возможно, что эти разные типы членения групп «родственных» языков связаны с разными типами возникновения этих групп, то есть, что цепевидное членение развивается при преобладании дивергенции, а кирпичевидное – при преобладании конвергенции.
Как бы то ни было, индоевропейское языковое семейство не представляет особо тесной связи между отдельными своими ветвями. Каждая из ветвей индоевропейского семейства обладает значительным числом словарных и грамматических элементов, не имеющих точных соответствий в других индоевропейских языках, – в этом отношении индоевропейское семейство сильно отличается от таких языковых семейств, как тюркское, семитское или семейство языков банту. А при таких условиях предположение, что индоевропейское семейство получилось благодаря конвергентному развитию первоначально неродственных друг другу языков (предков позднейших «ветвей» индоевропейского семейства), отнюдь не менее правдоподобно, чем обратное предположение, будто все индоевропейские языки развились из единого индоевропейского праязыка путем чисто дивергентной эволюции. <…>
Соседние языки, даже не будучи родственны друг с другом, как бы «заражают друг друга» и в результате получают ряд общих особенностей в звуковой и грамматической структуре. Количество таких общих черт зависит от продолжительности географического соприкосновения данных языков. Все это применимо и к языковым семействам. В большинстве случаев языковое семейство представляет определенные особенности, из которых одни объединяют его с одним соседним семейством, а другие – с другим, тоже соседним. Таким образом, отдельные семейства образуют целые цепи. Так, угрофинские языки и тесно с ними связанные языки самодийские представляют целый ряд структурных особенностей, общих с языками «алтайскими» (т. е. тюркскими, монгольскими и маньчжуро-тунгусскими). Алтайские языки в свою очередь некоторыми структурными особенностями напоминают языки корейский и японский, а этот последний, наряду с чертами, сближающими его с алтайскими языками, обладает и другими чертами, сближающими его с языками малайско-полинезийскими. С другой стороны, алтайские языки имеют общие черты и с так называемыми «палеоазиатскими» языками («одульским» – юкагирским, «нивхским» – гиляцким и камчатской группой, состоящей из «ительменского» – камчадальского, «нымыланского» – корякского и «луораветланского» – чукотского), а эти языки (в особенности их камчатская группа) по структуре явно напоминают язык эскимосский и через него соединяются с некоторыми другими североамериканскими языками. <…> (Трубецкой).
Богуслав Гавранек (1893–1978)
Чешский языковед, славист, академик Чехословацкой АН. Профессор университета в Брно (с 1929), Карлова университета в Праге (с 1945). Внёс большой вклад в разработку функционально-структуральной теории Пражской лингвистической школы. Изучал чешский язык в разных аспектах. Автор работ по сравнительной грамматике и сравнительно-историческому изучению литературных славянских языков. Редактор научных журналов «Славия», «Слово и словесность», «Наша речь» и др. Государственная премия ЧССР (1957).
Задачи литературного языка и его культура (1932)
(Гавранек: 365).
Различие между функциональным языком и функциональным стилем заключается в следующем: функциональный стиль определяется конкретной целью того или иного высказывания, то есть «речи» (parole), в то время как функциональный язык определяется общими задачами нормативного комплекса языковых средств и является функцией языка (langue) (Гавранек: 366).