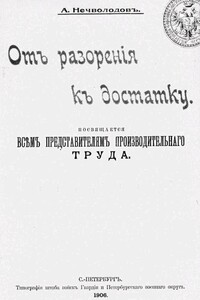Борис старался помочь голоду самой щедрой раздачей денег бедным; но это только усилило бедствие: узнав про милостыню, раздаваемую царем, толпы народа хлынули со всех сторон в Москву; сюда шли и те, которые смогли бы прокормиться на местах. От этого, разумеется, нужда в столице еще усилилась, а Борис, видя, что, вследствие предпринятой им раздачи денег, народ со всего государства стремится на явную смерть в Москву, решил прекратить эту раздачу, что повело к еще большим бедствиям.
Наступившей страшной нуждой старались воспользоваться некоторые алчные и жестокосердные люди, обладавшие большими запасами хлеба в зерне; они тщательно берегли его, ожидая еще большего повышения цен. «Даже сам патриарх, – рассказывает Исаак Масса про Иова, – имея большой запас хлеба, говорил, что он не хочет еще продавать его в ожидании цен».
Но, к счастью, наряду с такого рода лютыми корыстолюбцами, в эти бедственные времена были и люди, стяжавшие себе память высокими подвигами милосердия. К числу их принадлежала Ульяна Устиновна Осорьина, вдова зажиточного дворянина, причтенная нашей Церковью к лику святых под именем Праведной Юлиании Лазаревской (по месту погребения в с. Лазареве, близ Мурома).
«Это была простая обыкновенная добрая женщина Древней Руси, – говорит про нее известный русский историк В. Ключевский, – боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому – чувство, с которым русская женщина на свет родится, – в ней было тоньше и глубже, обнаруживалось напряженнее, чем во многих других… Еще до замужества, живя у тетки, по смерти матери, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице». Таким же милосердием отличалась Ульяна Устиновна и во все время своего супружества. «Бывало, ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань, года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам…»
Страшный голод, наступивший в 1601 году, застал Ульяну Устиновну совершенно неприготовленной. Сама она не сжала ни одного зерна со своих полей. Но это нисколько не повлияло на нее. Она распродала все, что могла, и на деньги эти покупала хлеб для раздачи нищим.
Голод стал стихать к 1604 году, когда Борис догадался предпринять соответствующие меры: послали скупать хлеб в отдаленные местности, где он сохранился в большом количестве, и продавать его затем за половинную цену в Москве и других городах. «Бедным же вдовам, сиротам и особенно немцам, – говорит С. Соловьев, – отпущено было большое количество хлеба даром».
Вместе с тем, чтобы дать работу собравшимся в Москве людям, Борис предпринял большие постройки: он велел сломать деревянные палаты Иоанна Грозного в Кремле и возвел каменные. Наконец, обильный урожай 1604 года положил конец бедствию. Но последствия его были крайне тяжелы: кроме общего обеднения, нравственность народа, и без того подорванная доносами и другими мероприятиями Годунова, пала от ужасной нужды и сопровождавших ее безурядиц до крайней степени.
Перед тем чтобы продолжать наш рассказ о новых, необычайных событиях, наставших в жизни Московского государства, нам необходимо сделать краткий очерк положения дел в Польско-Литовском королевстве к этому времени.
Попавший всецело в руки иезуитов, король Сигизмунд наделал ряд крупных промахов: мы видели, что, вследствие своей религиозной нетерпимости, он лишился отцовского престола в Швеции, которым овладел его дядя – Карл IX, причем возникшая между ними война затянулась на долгое время и была несчастлива для поляков, не сумевших помешать шведам утвердиться в значительной части Ливонии.
Также под влиянием иезуитов, Сигизмунд заключил тайный договор с Австрией, на условиях, явно не выгодных для Польши; это вызвало крупную ссору между ним и польскими сенаторами, призвавшими его на сейм в 1592 году, на котором он был подвергнут настоящему следственному допросу и должен был выслушать крайне оскорбительные упреки от Яна Замойского, Радзивилла, примаса епископа Карнковского и других.