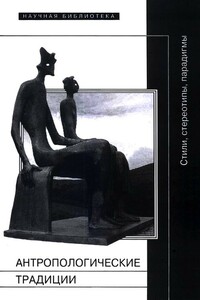История русской литературной критики - страница 99
В 1928 году, когда литературная борьба в Советской России достигла пика (а затем — завершения в приказном порядке), Томашевский посетил Прагу. Там он поделился своими мыслями о «новой школе истории литературы в России» со своим другом Романом Якобсоном, который уже эмигрировал и обосновался в чешской столице. Те же мысли высказал он 6 марта 1927 года во время знаменитого столкновения формалистов с марксистами в Ленинградском университете[710]. Вскоре они будут опубликованы во французском журнале «Revue des études slaves». Рассказывая зарубежной аудитории об осажденном в СССР формализме, Томашевский очень взвешенно говорил о его эволюции, ошибках, достижениях, полемических перехлестах. Однако в вопросе об автономии литературного труда и мастерства оставался непреклонен.
Биографическая школа, представители которой расплодились за последнее время, видела в художественном творчестве индивидуальную деятельность автора как факт его частной жизни, — писал он.
При этом Томашевский полагал, что прогрессивные критики-журналисты были ничуть не лучше, трактуя героев Пушкина, Лермонтова и Тургенева как «исторических персонажей», как «типичных представителей своей эпохи». Литература от этого отнюдь не выигрывала. Формалисты же полагали, что она — «плохой исторический документ, что реальная жизнь преображается в литературе и искажается»[711].
Именно в таком широком смысле следует понимать формалистическую доминанту автономности. Разумеется, прозаик и поэт пребывают «в жизни». Однако их искусство питается и управляется не событиями «оттуда», но внутренне, через взаимосвязи и балансировку частей каждого отдельного произведения, а также в зависимости от ритма колебаний литературной истории. Творцы живут в реальном мире, но они несвободны, поскольку их субъективные действия подчинены имманентным механизмам литературного процесса. Эта ситуация позволила современному исследователю утверждать, что «автор» не самое лучшее название для «производителя художественного текста при подобном сценарии». Его точнее было бы назвать «оператором приема»[712]. Во многих смыслах это управляемое человеком механически надежное устройство подчиняется не столько вдохновению, сколько законам научного эксперимента и служит, как и наука, прогрессу познания. В 1967 году, спустя четыре десятилетия после того, как формализм прекратил свое существование в качестве организованного движения, Шкловский вновь подтвердил эти фундаментальные основания в статье, заказанной венгерским журналом и названной, вслед за статьей Л. Толстого о «Войне и мире», «Несколько слов о книгах ОПОЯЗа»[713]:
Искусство связано с удивлением — остранением. Но остранение оказалось нужным и науке. Это не обозначает, что наука кончается на этом, бессознательном, удивлении. Она проходит через стадию «чуда» и устанавливается проверкой, создавая и новые методы проверки. Потом снова уходит на другую часть спирали познания. Поэзия тоже познается, познается через некоторое время, и тоже уходит вперед […] Я считаю, что работа литературоведа ускоряет продвижение поэтического познания[714].
Близость формалистов, марксистов и до некоторой степени представителей психоаналитической критики на этом прогрессивном «фронте познания» поразительна. Различия между этими тремя направлениями и кругом Бахтина принципиальны и непреодолимы.