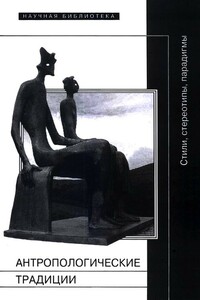В 2001 году ведущий постсоветский гуманитарный журнал «Новое литературное обозрение» опубликовал подборку материалов по теме «1920-е годы как интеллектуальный ресурс: В поле формализма»[694]. Образ «поля» — концептуального, гравитационного, минного, поля боя, наконец, — был выбран довольно точно, а русский формализм — в данном случае наиболее продуктивный ракурс. Формалисты, расцвет деятельности которых приходится на 1916–1927 годы, — вероятно, самая заметная и оригинальная группа русских литературных теоретиков ранних лет большевизма. «Поле» их «интеллектуальных ресурсов» изначально было богато парадоксами. С одной стороны, завороженные демонстративным эгоцентризмом футуристического поэта, декламирующего на уличном перекрестке, они были эксгибиционистами в своих установках на борьбу, открытый конфликт, проявленность техники (или «приемов») — в целях деформации, шока, ретардации, затруднения. С другой стороны, они были лабораторными учеными, гордящимися беспристрастием и объективностью, завороженными системами, стандартизированными частями и безликими самореферентными моделями для различения эволюции художественных форм от индивидуальных причуд художников.
Авторы открывавшей упомянутую подборку в «Новом литературном обозрении» статьи, провокационно названной «Наука как прием», рассмотрели все причины того, почему формализм, и в особенности его первые ростки в находящемся на переднем крае науки ОПОЯЗе (Обществе изучения теории поэтического языка), был столь привлекателен в первое пореволюционное десятилетие[695]. Формализм предложил научную (по крайней мере, систематическую) методологию, способную заменить мистицизм литературно-критической мысли конца XIX века. В противовес интуитивистским и субъективистским теориям он утверждал когнитивную структурность искусства, а своей новой и точной терминологией обещал восстановление автономии исследований — и индивидуальных произведений, и целых литературных традиций. Так, формалистические модели литературной эволюции предполагали, что канон восстанавливает себя изнутри, используя свои собственные инструменты, и, следовательно, не зависит от «плавного и постепенного развития» органических или всего лишь индивидуально-психологических процессов[696].
Неудивительно, что эта новая литературная наука ассоциировала себя с радикальными футуристическими поэтами и писателями, воспевавшими город и фабрику — среду рационально спланированную и сконструированную, а не природную, органически выросшую. Именно потому, что формалисты изначально находились под огнем критики, они преуспели в публичной полемике и довольно рано смогли утвердиться (как очень молодые профессора) в официальных и влиятельных государственных институциях. В отличие от сильных, эклектичных, визионерских направлений, исторически окружавших его (символизм — до, соцреализм — после), формализм был воинственно секулярен, а его адепты страстно верили в объективную реальность осязаемого мира и фокусировали свой интерес на литературной «специфичности» так же, как и на эмпирическом анализе.
Критики-интуитивисты эпохи символизма были скорее синтезаторами, чем аналитиками. Даже серьезные стиховеды и великие поэты (такие, как Андрей Белый), стремившиеся к точности через использование статистических методов, не могли противиться соблазну увидеть в найденных цифрах, схемах и пропорциональности поэтических элементов подтверждение космической философии. Их «соперники» в литературе — представители академического или биографического направления в критике — противопоставляли этому метафизическому субъективизму неразборчивый позитивизм и благоговейное преклонение перед фактами. Ни символизм, ни академизм не были особенно озабочены ни автономией литературной сферы, ни строгим определением объекта собственных занятий.
Русское литературоведение бесцельно блуждало между двумя противоположными полюсами — импрессионизмом и педантизмом, не обретя собственных методов, не определив предмета изучения и даже не установив с полной определенностью, к какому типу научного познания оно должно принадлежать, —