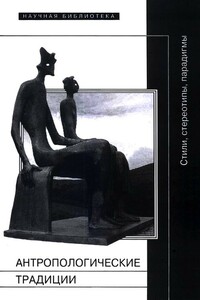История русской литературной критики - страница 164
Пожертвуйте, господа, вашим классицизмом и строгостью, вашей чистотой, вашим пушкинизмом, напишите хотя бы два слова так, как будто вы ничего до них не знали[1033].
«Пушкинизм» являлся для Адамовича синонимом фетишизированного преклонения и имитации поэзии, безразличной к реалиям современной жизни (Ходасевич был также скептичен в отношении «пушкинизма», но он видел в нем всего лишь фетишизацию Пушкина в науке, прежде всего в Советском Союзе)[1034].
Атаки Адамовича на авторитет Пушкина побудили Альфреда Бема выступить в защиту поэта. В статье «Культ Пушкина и колеблющие треножник» Бем заклеймил Адамовича как «теоретика этого нового антипушкинского движения», а «Числа» — как альманах, который его покрывает[1035]. Важно отметить, что в названии своей статьи Бем обыгрывает слова, ранее взятые Ходасевичем для статьи 1921 года «Колеблемый треножник», в которой было указано на необходимость обращаться к живым урокам Пушкина даже тогда, когда его эпоха представляется отдаленной и все менее значимой. Опубликованная в то время, когда Ходасевич все еще оставался в Советской России, его статья апеллировала к последней строке пушкинского стихотворения «Поэту» («И в детской резвости колеблет твой треножник»), провозглашавшего свободу художника, его право подняться над толпой и указать на ее незрелое и деструктивное отношение к своим поэтам. Подобно Ходасевичу, Бем призывал новое поколение учиться у Пушкина, а не отказываться от него, заново открыть для себя его творчество: «без культа прошлого нет и достижений будущего» (57). Бем был не единственным союзником Ходасевича в споре о Пушкине и Лермонтове 1930-х годов. Актуальная литературная полемика безошибочно узнавалась в подтекстах набоковского романа «Дар» (выходившего в 1937–1938 годах в «Современных записках», но полностью не опубликованного до 1952 года), вполне прозрачных для эмигрантской художественной среды, — в романе сатирически выведен Адамович в образе женщины-критика Христофора Мортуса, чей мужской псевдоним отсылал к еще трем реальным прототипам сразу: Зинаиде Гиппиус, Мережковскому и Николаю Оцупу, соредактору «Чисел»[1036].
Бем опасался того, что отказ от норм ясности и простоты, установленных Пушкиным, положит начало изменению мировоззрения и стиля целого поколения молодых эмигрантских литераторов, которые группируются вокруг «Чисел» и которых Адамович и его единомышленники используют для «подкопа» под (говоря словами Глеба Струве в парижской газете «Россия и славянство») «русскую культуру, русскую государственность […] всю новейшую историю России»[1037]. В ответ на «Письма о Лермонтове» (1935), роман Юрия Фельзена (псевдоним Николая Фрейденштейна, первая часть которого — Юрий — говорила о его любви к Лермонтову[1038]), Бем написал саркастическую и проницательную рецензию под названием «Столичный провинциализм», обвинив Фельзена не только в следовании «анти-Пушкинской» линии Адамовича, но также в прямом использовании в романе фрагментов его «Комментариев»[1039]. «Столичность» была для Фельзена чертой не только географической, но равно исторической, связанной с опытом прожитой жизни. Провинциализм присущ «тусклым, обыкновенным, незапоминаемым» и бессобытийным годам. Протагонист Фельзена, напротив, горд своей столичностью в том смысле, что он является свидетелем исторических событий, которые вознесли его над провинциализмом. Толчком к этому выходу на сцену истории становится причастность героя к французской литературе. Имена ряда французских писателей проходят через весь роман, но имя Пруста выделено особо. Пруст помогает протагонисту Фельзена сбросить с себя «стеснительную кожу однородности» (30), т. е. культурное однообразие, заключенное в удушающем и навязчивом понятии русскости. Пруст появляется как освободитель от этого состояния; в глазах протагониста Фельзена, его творчество перевернуло весь европейский литературный канон: «если было какое-нибудь чудо, нам известное, это, конечно, Пруст, чем-то уже затмивший Толстого и Достоевского» (29). В целом Толстой предпочтительнее Достоевского, поскольку, вместе с Лермонтовым и Прустом, он являет пример «доброты» и способности писать «о человеке вообще» (52). И все же чаще всего в компании с Прустом появляется именно Лермонтов — в качестве эманации нового идеала молодого столичного интеллектуала. Фельзен строит образ Лермонтова в созвучии с образом Володи, своего погруженного в себя и медитирующего протагониста, далекого от практических сторон жизни и предпочитающего размышления над глубинами человеческой души: «Лермонтов был просто человек и, погруженный в себя, он настойчиво рассуждал о себе и о своей жизни» (58). В сравнении с лермонтовской предрасположенностью к раздумьям пушкинская проза поразила протагониста Фельзена как «гладкая, тускло-серая и легковесная», лишенная «искреннего личного тона» (10, 11)