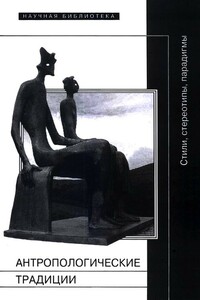Настоящая глава посвящена истории утверждения марксистского канона в эстетике 1930-х годов, сопутствующим ему методологическим дискуссиям и борьбе вокруг разного рода «уклонов» в литературной теории. В дискуссиях тех лет значительное место приобрела проблема жанра; его роль комплексного идеологического инструмента восприятия и концептуализации реальности стала предметом острой полемики. Мы сосредоточимся, в частности, на спорах о романе, эпосе и лирике, в центре которых стояли сотрудники журнала «Литературный критик» и ИФЛИ (Института философии, литературы и истории), прежде всего Д. Лукач и М. Лифшиц. В этом контексте будут рассмотрены и работы М. М. Бахтина о романе и эпосе, а также его книга о Рабле. Мы попытаемся дать общую характеристику эволюции Бахтина как мыслителя и его стиля теоретизирования, определить его значение для литературной теории и место его наследия в более поздних философских дискуссиях о субъекте и субъективности. Для того чтобы увидеть наиболее важные черты бахтинской методологии в их синхронном контексте, мы впервые попытаемся систематически рассмотреть семантическую палеонтологию — важный аспект теоретического ландшафта 1930-х годов и ее влияние на литературоведение. Этими основными моментами определяются как структура настоящей главы, так и трудные решения относительно включения в нее того или иного материала.
1. Формирование канона марксистско-ленинской эстетики
1930-е годы стали определяющими для формирования советской литературной теории. Если в 1920-х вопрос о том, как литература могла бы служить новому режиму, горячо обсуждался, но так и остался нерешенным, то в начале 1930-х такие «установки» были наконец даны в теории соцреализма, провозглашенной в 1932 году и развитой в ставших каноническими выступлениях Андрея Жданова и Максима Горького на Первом съезде советских писателей в 1934-м. Во многих смыслах, однако, эти указания (особенно в выступлении Горького) были расплывчатыми, тогда как соцреализм, каким он возникал в литературной практике, был в высшей степени конвенциональным и композиционно и тематически ограничивающим. Споры о том, в каком направлении должна развиваться теория соцреализма, каким должно быть его место в истории литературы и в современной мировой литературе, продолжались в течение всех 1930-х годов и часто велись в завуалированной форме. Наиболее утонченная и опосредованная версия этих дебатов сфокусирована на проблеме жанра. Сегодня ясно, что именно Лукач и Бахтин оказались главными полюсами в этих дискуссиях, хотя Бахтин, большую часть 1930-х годов находившийся в изгнании и не имевший возможности публиковаться, оставался в это время скорее невидимым оппонентом и участником этих споров.
После роспуска РАППа и создания Союза советских писателей многие критики и теоретики пытались поставить соцреализм в широкий контекст традиций левой «интернациональной литературы», которые выходили далеко за пределы доморощенных рапповских теорий, восстанавливая в правах эстетику, ставя вопрос о «литературных свойствах» произведений и выдвигая проблему профессионализма как критерия оценки «качества». Имплицитно требования качества и профессионализма подрывали примат классового критерия в литературе. Центральным в сталинской литературной платформе 1930-х годов стал разгром так называемой «вульгарной социологии», которая была связана с В. Ф. Переверзевым и его школой, исходившей в своем подходе к истории литературы из того, что существует прямая корреляция между процессами в социально-экономической сфере и в литературе. Одновременно происходил отказ от распространенной еще в Пролеткульте установки на то, что только пролетарии либо писатели большевистской ориентации могут создать необходимую новому обществу литературу. Эта доктрина в эпоху рапповской гегемонии привела к кампании за создание литературы, написанной самими рабочими и повествующей об их жизни. Фактически начало 1930-х годов стало периодом реакции против в целом прагматического, утилитарного и материалистического подхода к большинству областей культуры, которым характеризовался период, предшествовавший эпохе культурной революции. Стали раздаваться жалобы на то, что характерные для культурной революции технологический пафос, интерес к статистике и ориентация на требования момента вытеснили такую, более высокую и устойчивую, ценность, как красота. Культура сама стала ценностью, и не только как политико-идеологический инструмент.