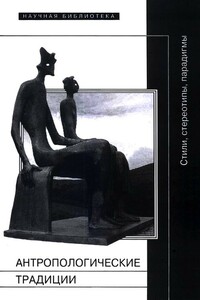Язык революции в постоянном движении и процессе своего развития, он сам «очищается от хлама, ржавчины, провинциализмов, становясь передовым, культурным языком мира». Панферов критиковал точку зрения тех, кто «рабски предан классическому прошлому […] Самое легкое дело выйти на трибуну и начать расхваливать Толстого, Гоголя, Достоевского, Лермонтова — всех классиков […] Но на самом деле в этом сказывается боязнь перешагнуть заранее намеченную грань, незнание нашей действительности»[783].
Понятие «языка революции» опиралось на весьма распространенную в то время лингвистическую теорию Марра, согласно которой язык относится к идеологической надстройке. Утверждалось различие между языком высшего и низшего классов, т. е. крестьянства и пролетариата, с одной стороны, и дворянства — с другой. Эти языки отражают разные классовые психоидеологии, и лишь в ходе строительства социализма и благодаря сознательной языковой политике разница между городом и деревней со временем исчезнет.
Хотя главной мишенью Горького и «Литературной газеты» являлся языковой «натурализм», время от времени звучала критика «бессмысленных слов» и «словесного хаоса» таких писателей, как Хлебников и Белый. В полном объеме борьба с «формализмом» разгорелась на языковом фронте лишь спустя два года. Стоит, однако, обратить внимание на обширную статью литературоведа Николая Степанова «Словесная бутафория». В ней еще в 1934 году «натурализм» и «формализм» идентифицируются как равно опасные и, по сути, близкие уклоны от «реалистического языка» таких канонизированных произведений, как «Разгром» Фадеева или «Чапаев» Фурманова.
[Натурализм] стремится к «грубости», к вводу в литературу ругательств, блатного языка, а то и вовсе «непечатных слов». При всем кажущемся своем «новаторстве» и эстетическом нигилизме, он является лишь оборотной стороной эстетизованного поэтического языка. Так же, как и там, здесь делается ставка на «эффектность» слова, на его эмоциональную выразительность, не зависящую от смысла, от точности словоупотребления[784].
Согласно Степанову, писатели, идущие по пути орнаментализма, «приходят к обессмысленному, „беспредметному“, неточному слову или к словесной бутафории, красивости, лакирующей действительность. Недоучет предметной смысловой роли слова и ложно понятая выразительность языка все время заставляют писателя прибегать к перифразам или к подчеркнуто эффектному слову и образу» (112). Этой тенденцией заражены даже такие произведения, как «Цемент» или «Энергия» Гладкова. Орнаментальность противостоит точному, смысловому слову:
Нам нужно «умное», а не «заумное» слово, потому что наша литература должна правдиво, объективно показать действительность, а не скользить по поверхности. Некоторые же наши писатели, в силу отсутствия большого идейного содержания, заменяют его словесным узором (107).
Степанов хвалил Вс. Иванова за то, что тот «перешел от орнаментализма, от лексической уснащенности и узорчатости языка своих ранних вещей („Цветные ветра“) к скупому и точному „бунинскому“ „слогу“ и даже заново перерабатывает свои ранние повести» (106).
Коренное различие между простой и орнаментальной прозой восходит, как замечает Степанов, к русской традиции XIX века, полюсами которой являлись Гоголь и Пушкин. Гоголевская сказовая линия, обновленная в символизме и орнаментализме пореволюционной литературы, оказывается вредной в актуальной культурной ситуации: «Сейчас вновь ставится вопрос о пушкинской „нагой простоте“, о точном и ясном слове, максимально наполненном смыслом» (111). Пушкинская, классическая линия должна была, через реализм и Горького, найти свое продолжение и достичь апогея в соцреализме. Дискуссия о языке показывает, что решающее значение имело не то или иное стилистическое или литературное направление, но стремление покончить с языковой смутой 1920-х годов во имя нормативного нейтрального стиля[785].
Цель начатой Горьким дискуссии — подчинение литературы, сохранявшей относительную стилистическую самостоятельность, идеологическому контролю. Об этом прямо говорили сторонники официальной позиции. В литературе и искусстве опасность исходила прежде всего от неоднозначности, непрозрачности, в чем — не без основания — виделся источник диссидентства и возможность «идеологической контрабанды».