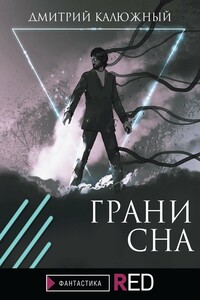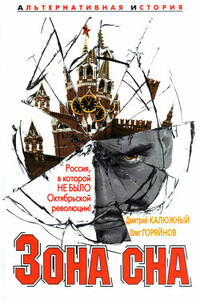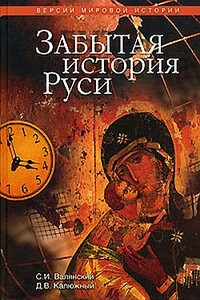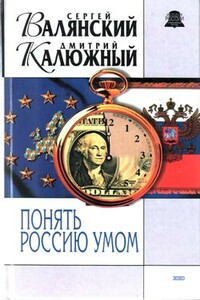БЮРОКРАТИЗМ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Однажды князь П. В. Долгоруков беседовал с графом Д. Н. Блудовым. Последний стал вспоминать свою службу у генерала от инфантерии графа Николая Михайловича Каменского, который командовал русской армией против турок:
— После обеда пили мы кофий; граф Каменский сидел в креслах, а мы все вокруг него стояли…
Долгоруков прервал графа:
— Как, неужели перед Каменским не садились?
Блудов с улыбкой ответил:
— Нет, теперь [во времена Александра II] это понять трудно, а в то время [Блудов служил у Каменского в 1809‒1811 годах] перед начальством не принято было садиться!
Долгоруков отметил, что это уже был прогресс, так как сановники времён Александра Павловича принимали подчинённых своих в сюртуке и сидя, а не в халате и лёжа, как это делали сановники екатерининской эпохи…
Умершему в ноябре 1825 года Александру наследовал его брат Николай I (1796‒1855). Главным его качеством, определившим результаты всей эпохи, было стремление к максимальной организованности. Таким он старался сделать всё государство, ибо вне государственного порядка — лишь «хаос отдельных личностей».
Прежде всего, для достижения наивысшего порядка в стране по указу от 1826 года было образовано III Отделение императорской канцелярии, с подчинённым ему Корпусом жандармов. Страну поделили на пять округов во главе с жандармскими генералами, а в каждой губернии вопросами охраны государственной безопасности отныне ведал специально назначенный штаб-офицер жандармерии. Общая численность Корпуса была невелика, но III Отделение располагало ещё и обширной сетью тайной агентуры, что позволяло вести секретный надзор за правительственными учреждениями, частными лицами, писателями, иностранцами и т. п.
Задачи III Отделению поставили такие: выяснение и пресечение злоупотреблений, защита обывателей от притеснений и вымогательств чиновников. А получилась крайне раздражавшая того же обывателя централизованная общегосударственная система сыска и надзора. Она вызвала рост недовольства и, соответственно, объёма работ жандармов. Чиновники же, под страхом жандармских репрессий выполнявшие свою работу буквально, по предписаниям, добавляли в жизнь мертвечины.
Также был введён новый цензурный устав, ужесточивший административный надзор за деятельностью литераторов и журналистов. Правда, цензорам велено было рассматривать лишь прямой смысл текстов, не принимая во внимание возможные интерпретации, но… Парадокс в том, что именно в таких условиях развернулся талант величайших поэтов и писателей России: Пушкина и Лермонтова, Гоголя, Грибоедова и других.
Учредили и II Отделение императорской канцелярии; им руководил возвращённый на службу Сперанский. Оно занималось кодификацией всей массы законов и перетряхнуло всё российское законодательство. В 1830 году, после четырёхлетней работы, было издано 45 томов «Полного собрания Российских законов», в которые вошли почти все указы, начиная с Соборного уложения царя Алексея Михайловича и до указов последних дней Александра I (более 30 тысяч актов). К 1832 году вышли ещё 6 томов, включивших законодательные акты 1825‒1830 годов. Затем были подготовлены ещё 15 томов: «Свод действующих законов Российской империи».
Правда, эта грандиозная работа никак не могла помочь в практической работе. Накопившаяся за две сотни лет разрозненная масса указов, часто противоречивших друг другу, затрудняла ведение дел и способствовала злоупотреблениям. Контроль за административным аппаратом вёлся эпизодически, из столицы следить за провинциями было невозможно, и с удалением от неё произвол и злоупотребления возрастали. Естественно, развились лихоимство и прямое воровство с одной стороны, медлительность и неисполнение распоряжений центра — с другой. Для примера, при проверке канцелярий Курской губернии в 1834 году обнаружили более девяти тысяч неоконченных дел, около шестидесяти тысяч — не исполненных, и ещё без малого триста тысяч вообще не разобранных бумаг.
В столичных департаментах неисполнительность была ниже, но только потому, что здесь просто было больше чиновников. Даже в Комитете министров ревизии 1840‒1841 годов показали 65 неоконченных важнейших дел, причём одно из них — семнадцатилетней давности, а 20 высочайших повелений не только не были выполнены, но их даже не донесли до сведения членам Комитета! Николай I, узнав об этом, высказался так: «Неслыханный срам! Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими»