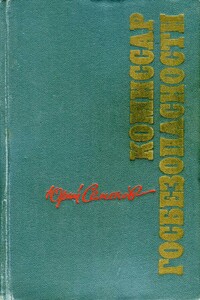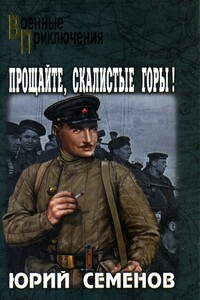Третий вариант эволюции состоял в том, что мальчики стали из женско-детской группы свой общины переходить в мужскую группу этой же общины. В результате параллельно с материнским родом возник отцовский род, к которому в последующем развитии перешла ведущая роль. Наложение друг на друга двух филиаций: материнской и отцовской имело своим следствием возникновения своеобразной структуры, за которой в этнографической литературе закрепилось название системы брачных классов.
Но хотя социоисторический организм перестал совпадать с родом, последний не только не исчез, но и не утратил экономического значения. Перестав совпадать с общиной, род сохранился в качестве основы последней. Это особенно наглядно можно видеть на примере варианта с отцовским родом, который представлен значительным числом племен аборигенов Австралии. Люди, составлявшие общину или, как ее часто называют, локальную группу, были подразделены на три части.
Первую составляли мужчины. Все они принадлежали к одному отцовскому роду. Родившись в данной локальной группе, они оставались в ней до смерти. Вторую часть составляли женщины, родившиеся в данной локальной группе. Они принадлежали к тому же самому отцовскому роду, что и мужчины. Но в отличие от мужчин они находились в составе родной локальной группы только до вступления в брак. С выходом замуж они переходили в группу супругов. И наконец, третью часть составляли жены мужчин данной локальной группы. Они родились в иных локальных группах и пришли в данную в результате замужества. Первоначально они, вероятно, принадлежали к одному роду, отличному, разумеется, от того, к которому принадлежали их мужья. Но в дальнейшем они чаще всего начали принадлежать к разным родам.
Соответственно с этим люди, образовывавшие отцовский род, подразделялись на две части. Одну часть составляли мужчины, которые от рождения до смерти входили в состав одной локальной группы, т.е. жили вместе. Другую его часть составляли женщины, которые, родившись и повзрослев в одной локальной группе, с выходом замуж покидали ее и переходили в состав иной общины, в локальную группу мужа. Как видно из сказанного, мужчины составляли одновременно постоянное ядро как своего рода, так и своей локальной группы. Община и род, не совпадая полностью, имели одно и то же ядро. И в этом смысле община продолжала быть родовой, а род соответственно может быть охарактеризован как локализованный. Что же касается женщин, то они составляли периферию как своего рода, так и общины, в которую они переходили с замужеством.
На той стадии эволюции, на которой род полностью совпадал с общиной, экономические связи внутри общины были одновременно и экономическими связями между членами рода. Экономические отношения внутри ранней общины выступали по форме как отношения между членами одного рода, между людьми, имеющими один тотем.
Люди, принадлежавшие к одной первобытной коммуне, являвшейся одновременно родом, делили между собой продукты и делились друг с другом продуктами в силу объективной экономической необходимости. Уровень развития производительных сил с неизбежностью определял существование именно этих, а не каких-либо иных производственных отношений. Но сами члены первобытной коммуны осознавали обязанность делить продукты и делиться ими как производную от принадлежности к одному роду. Принадлежность к роду была пожизненной. Столь же пожизненной была и обязанность делиться с членами рода. Дележные отношения между членами рода не были приобретенными. Они не заключались и не могли быть расторгнуты. Они существовали постоянно.
Когда род перестал совпадать с общиной, когда члены одного оказались принадлежавшими не к одной общине, а к разным, род в целом не утратил своего экономического значения. По-прежнему считалось, что члены рода обязаны делиться продуктами друг с другом. В принципе род продолжал оставаться кругом людей, связанных общей собственностью и дележными отношениями.
Членов рода, входивших в состав одной общины, действительно по-прежнему продолжали связывать дележно-коммуналистические отношения. Несколько иначе складывались реальные отношения между членами рода, входившими в состав разных общин. Они, так же как и члены рода, входившие в одну общину, обязаны были делиться друг с другом продуктами. Формально все оставалось по-прежнему.