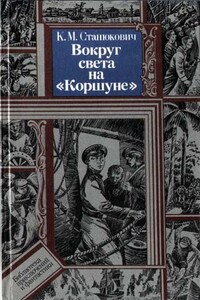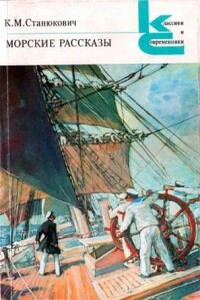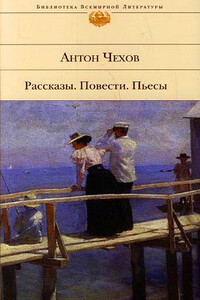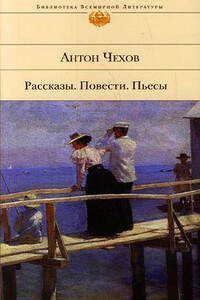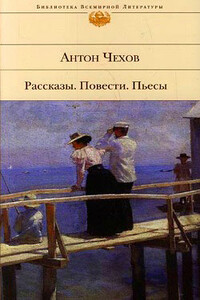Он не мог пожаловаться ни на какие острые страдания – по временам грудь пыла, но не очень сильно, и беспокоил сухой кашель, – но он чувствовал, что вообще слабеет и после часа работы или после ходьбы устает, чувствовал какую-то тяжесть в ногах и отсутствие гибкости в членах. Видно было, что последствия прежней жизни начинают сказываться и постепенно разрушают его когда-то крепкий организм.
Но «граф», привязавшийся снова к жизни с тех пор, как она ему улыбнулась, все надеялся, что эта усталость и эта слабость пройдут. Он бодрился и с какою-то инстинктивною предусмотрительностью заботился теперь о своем здоровье и частенько показывался в приемные часы у женщины-врача Елизаветы Марковны, лечившей его от воспаления легких, советовался с ней, принимал какие-то пилюли, остерегался простуды, словом, берег себя и подчас строил планы о будущем, о далеком будущем вместе с Антошкой.
Когда Антошка ворвался в комнату, «граф» сразу догадался по его сияющему лицу, что случилось что-то приятное.
– Ну, рассказывай, рассказывай скорей, Антоша… Вижу, брат, по твоей физиономии, что ты в восторгах. Что случилось? Новую машину выдумал, или тебя ваш строгий чухна [20] похвалил? – говорил «граф», сам улыбаясь при виде неудержимой радости, которою, казалось, был переполнен Антошка.
– Помощником мастера назначили, Александр Иванович, – почти крикнул Антошка.
«Граф», знавший благодаря Антошке все иерархические степени заводских служащих, вполне проникся важностью этого повышения и радостно проговорил:
– Ну, поздравляю тебя, Антоша, поздравляю тебя, родной… Год на заводе – и уже помощник мастера… Это что-то необыкновенное… Иди, брат, вымой скорей руки, чтоб я их пожал… Кстати, вот и Марфа несет произведение Адели Карловны.
– И жалованье назначили, Александр Иваныч! Пятьдесят рублей в месяц! – почти выкрикнул Антошка, уходя за перегородку и принимаясь за мытье.
– Пятьдесят рублей!? – воскликнул «граф», не веря своим ушам.
– Пятьдесят! – повторил Антошка, отфыркиваясь. – С первого числа. И обещали сделать мастером.
– Молодец, Антоша… Ты блистательно начинаешь свою карьеру… В восемнадцать лет – и уже пятьдесят рублей… Да ведь это жалованье поручика… Ай да справедливый «печальный пасынок природы»!.. [21] Ай да ваш строгий Арнольд Оскарович! Он, значит, оценил тебя, понял, какой ты талантливый человек! – радостно говорил «граф».
И когда Антошка вышел из-за перегородки, «граф» крепко пожал руку Антошки, потом привлек его к себе, обнял и что-то долго не выпускал Антошку из своих объятий, желая скрыть радостные слезы, которые невольно застилали глаза.
– Ну, теперь садись и ешь… Подробности вечером… Ведь ваш шабаш не долог. Так пятьдесят рублей, Антоша? И ты будешь мастером? И, конечно, скоро… Одним словом, теперь ты на своих ногах… Я так и ждал… Ты и мальчишкой был всегда сообразительным умницей… О, ты, брат, далеко пойдешь… Непременно какую-нибудь машину да выдумаешь… Ешь, ешь… Вечером расскажешь, как это случилось и что тебе начальник мастерской говорил… Так с первого числа? Теперь, Антоша, ты богат и можешь завести и часы, и сшить себе новую пару, и пользоваться иногда развлечениями…
Но вдруг «граф» остановился, изумленный внезапной переменой лица Антошки. Куда девалась сиявшая на нем радость!
– Разве жалованье, которое я буду получать, мое, а не наше, Александр Иваныч? – взволнованным и словно бы недоумевающим тоном воскликнул Антошка, и лицо его приняло бесконечно грустное выражение обиженного ребенка. – К чему вы говорите о каких-то часах, о новой паре? Разве мы не будем оба жить на жалованье?.. Вы, значит, не хотите, чтоб я мог хоть чем-нибудь отплатить за все, что вы для меня сделали… Я… я… жизнь… готов… отдать за вас, а вы…
Антошка больше не мог продолжать.
О, какие мгновения бесконечного счастья испытывал «граф», слушая эти порывистые, прочувствованные излияния благородного сердца! Каким великим вознаграждением за все страдания горемычной его жизни была эта обида привязанного существа! И как хороша казалась жизнь! И каким теплом охватывало его душу!
С трудом удерживаясь от слез, подступавших к горлу, «граф» поглядел на Антошку с восторженным умилением и проговорил: