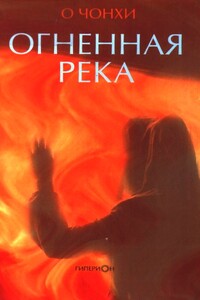– Бесконечный топот, много детей, что ли?
Кажется, тогда всплывал разговор о будто бы зарубленной Буденным его первой жене. Якобы примчался разгоряченный с боя: «Ах, нет щей»? И шашка сверкнула, и голова покатилась. Возможно, это я позже услышала в Болгарии. Но что-то такое было и в разговорах тети Вари. Недавно рассказывали по телевизору: в то время, в 1945-м, Буденный жил с горячо любимой и преданной женой. А до этого было что-то. Сказали: первая жена сама застрелилась, вторую сам отвез на Лубянку. Может быть.
Папа прощается с Россией. Привез из Ленинграда оставшиеся там книги, в том числе Большую медицинскую энциклопедию, а мама ходит на базар, скупает книги – Большую советскую энциклопедию, еще первого издания, красную; покупает книги Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, сборник русских поговорок, песен и даже два тома прекрасно изданного еще в тридцатые годы Шекспира в переводе Лозинского. Папа прощается и старается как можно больше показать нам, детям.
В один из воскресных дней мы едем на край Москвы, пытаемся попасть в домик в Филях. Папа показывал Поклонную гору, говорил про Кутузова, Наполеона. С воодушевлением рассказывал про совет в Филях накануне сдачи Москвы. Почему-то то время ощущается очень близким. Домик был закрыт, окна заколочены; заглядывая в щели на окнах, пытаясь хотя бы что-то разглядеть, папа рассказывал:
– Мальчишка твоих лет свесился с печки и слушал военный совет, видел Кутузова и всех генералов, присутствовал при историческом решении сдать Москву.
Я ходила следом и не понимала – то ли папа завидует этому мальчишке, то ли хочет, чтобы я сама завидовала.
Запомнилось и посещение Парка имени Горького. Ничего смешнее «комнаты кривых зеркал» я до тех пор не видела. Мама в комнату не пошла, а папа быстро прошел и вышел. Мы же с Вовкой корчились, хохотали, передразнивали друг друга…
И еще запомнилось колесо обозрения. Мама осталась внизу, мы втроем – папа с Вовкой и я напротив – уселись в кабину. Колесо завертелось, и мы в сумерках медленно начали подъем. Перед нами вставала вечерняя Москва.
– Смотрите, запоминайте, – говорил папа. – Вон внизу река. Вон – Кремль. Красота! С высоты птичьего полета!
Папа прощался.
В последний вечер дядя Жоржик с папой хорошо выпили. Весело пели песни, и с особенным чувством: «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех…»
Я принимала это за неоспоримую истину, как и все сидящие за столом.
Выйдя на Красную площадь, папа пустился в пляс. В длиннополой шинели, руки по швам, он широким шагом, лицом к Кремлю, поскакал по площади в одну сторону:
– «Дворник улицу метет» – это раз-два-три!
– «И какую-то там песнь поет» – это трам-пам-пам. – И поскакал в другую сторону, к нам.
Опять от нас – руки по швам, лицом к Кремлю – быстро поскакал к Историческому музею.
– Здравко, Здравко! – кричала мама. – Милиционер! Тебя заберут!
Но не забрали, даже не свистнули. Папа вспомнил молодость. Папа прощался. Он улетал, а мы должны были через несколько дней ехать поездом. Помню, папа опасался лететь на самолете. Незадолго до этого самолет с деятелем, наиболее близким папе из болгарского руководства, Станке Димитровым (псевдоним Марек)[15] разбился, так и не долетев до Болгарии.
«Еще до отъезда в Болгарию мне вручили орден Красной Звезды, медали и присвоили звание подполковника».
В Болгарию, из которой бежал в 1927 году на пароходе, вцепившись в якорь, «сиромах» – несчастный, сирота – возвращался советский подполковник медицинской службы. На заграничном советском паспорте папа снят в военной форме.
А мы через несколько дней вошли в купе, столь заваленное ящиками с книгами, что не только негде было спать – негде ногу было поставить. Мама в растерянности остановилась в дверях.
– Ничего, ничего, сейчас как-то разберутся, – утешал носильщик.
– Какие вы богатые, – говорили другие, – это же надо, столько вещей.
Мы везли медицинскую литературу, что подарил папе его однокурсник, генерал-полковник медицинской службы Смирнов, и ящики с лекарствами. Действительно, еще до отхода поезда как-то разобрались, и в купе даже смогла зайти тетя Тася с коробкой шоколадных конфет. Она сидела рядом с мамой. Мы с Вовкой крутились возле коробки конфет. Мама, в мопровском пальто, растрепанная, плакала. Тетя Тася утешала. Но я видела, что она очень далека от маминых переживаний. Потом стояла на платформе – высокая, худая, элегантная, недосягаемая, в темном пальто и маленькой шляпке. Тетя Тася умела подводить черту. Мама, прильнув к окну, смотрела не отрываясь. Жоржик не пришел.